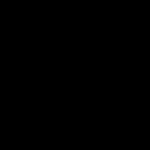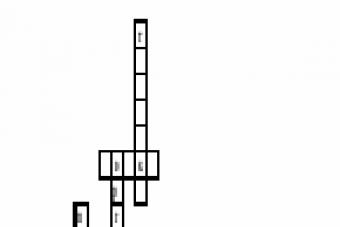Михаил Львович Матусовский (23 июля 1915 - 16 июля 1990) - русский советский поэт, кандидат филологических наук.
Родился 23 июля 1915 года в Луганске, в доме по улице Петербургской (ныне Ленинской) в еврейской семье, его отец Лев Моисеевич Матусовский был фотографом, мать - Эсфирь Михайловна Матусовская (урождённая Брукман) - была домохозяйкой. Окончил луганскую среднюю школу № 13.

Луганск. Улица Петроградская. Фото 1914 года.
Первые стихи Михаила Матусовского появились в газете «Луганская Правда», когда ему исполнилось 12 лет. Вот, например, стихотворение о минеральной воде «Нарзан»:
Лимонад, ситро, крем-соду,
Квас и сельтерскую воду
Не сменю на полстакана
Натурального «Нарзана».
Отец был известным и популярным человеком в Луганске. В альбомах старожилов до сих пор можно найти снимки, сделанные в фотоателье Льва Матусовского. Вот, что писал Матусовский о работе своего отца:
Он снимал людское горе,
безысходную судьбу,
И младенцев в день рожденья,
и покойников в гробу.

Лев Матусовский,отец поэта.
После окончания 7-летней школы мама - Эсфирь Михайловна - настояла на выборе технической профессии.
Но в техникум Михаил не поступил - его отца сочли кустарем и объявили лишенцем. Детям лишенцев получать образование было нельзя, поэтому вместо учебы он устроился на работу в кинотеатр: писал афиши и работал тапером.
Может быть, мир так и не узнал бы поэта Матусовского, но вмешался случай - приезжий фотограф высоко оценил работы Матусовского-старшего и помог ему вернуться к занятиям фотографией. Это меняло всё. Михаил поступил в строительный техникум и по окончании техникума устроился на один из заводов Луганска. На завод, где работал Михаил, приехали с концертом известные поэты - Е. Долматовский и Я. Смеляков. Матусовский показал им своих стихи, прочитав которые оба поэта постановили: «Надо ехать в Литературный институт».
Признание знаменитых поэтов настолько вдохновило Михаила Львовича, что он бросил работу на заводе и уехал в Москву «с чемоданом стихов, угрожая завалить столицу своей продукцией». И ему это удалось, но, правда, не сразу.
В 1939 году они написали книгу «Луганчане». Они с Константином отлично уравновешивали друг друга - Михаил был неженкой, а Константин был трудягой, работал с утра до вечера. Поэтому Симонов делал так: запирал Матусовского в его комнате и говорил: «Открою только тогда, когда ты под дверь просунешь стихотворение». Михаил писал стих, а Константин его отпирал. Матусовский выходил, и его наконец-то кормили. Он очень любил поесть.
В 1940 г. Михаил Матусовский издал сборник «Моя родословная», где проявил себя как поэт, живо откликающийся на события современности. По окончании Литературного института он поступил в аспирантуру МГУ, но очно защититься не успел - защита была назначена на конец июня 1941 года, но началась война и, 23 июня, Матусовский ушел на войну, будучи призванным в качестве военного корреспондента. Знаток древнерусской поэзии Н.К. Гудзия, научный руководитель Матусовского, походатайствовал за своего ученика и, в виде исключения, защита прошла в отсутствие диссертанта.
Михаил Матусовский служил на Западном фронте, который защищал Москву. На войне поэту пришлось пройти через многие испытания. Матусовский имел проблемы со зрением, поэтому на передовой он случайно близко подошёл к линии фронта немцев - его подстрелили, тяжело ранив в ногу.
Мария Белкина, корреспондент Совинформбюро, и Михаил Матусовский. Германия, апрель 1945 годаМихаил лежал под пулями на нейтральной территории, поэтому ему долго не могли оказать помощь. Один санитар попробовал, но не дополз - убили. А второму удалось. У Матусовского есть стихотворение «Памяти санитара». Он видит глаза человека, который к нему ползёт…
Не знаю, то ли я и вправду стар,
А может быть, пошаливают нервы, -
Всё чаще стал мне сниться санитар,
Убитый в Духовщине, в сорок первом.
Всё это происходит как во сне:
На глине оставляя отпечатки,
Он неуклонно движется ко мне,
Шурша брезентом мокрой плащ-палатки.
Я вижу, словно в стереотрубу,
Особенно отчётливо и зорко
Багровый шрам на закопчённом лбу
И тёмную от пота гимнастёрку.
Вот он уже почти на полпути.
В налипшей глине сапоги как гири.
Осталось метров семь ему ползти,
Нет - шесть, нет - пять, нет - только лишь четыре…
Но страшный взрыв всю землю вдруг потряс.
Недолгий век был парнем этим прожит.
И тот рубеж, что разделяет нас,
Он никогда переползти не сможет.
Столбы огня встают со всех сторон.
Под вечер небо багровеет с краю.
Как звать его, откуда родом он -
Об этом ничего я не узнаю.
Я не узнаю, где солдатский дом,
Что думал он, ползя навстречу смерти,
И кто получит весточку о нём
В казённом проштампованном конверте.
Давно разрывы не терзают слух,
Давно развеян едкий запах гари,
Но всё напоминает мне вокруг
О том, меня спасавшем, санитаре.
Оставшись сам с собой наедине,
Я часто вижу взгляд его под каской.
И он опять, за пядью пядь, ко мне
Ползёт, ползёт, ползёт по глине вязкой.
И кажется, как будто наяву,
На жизнь мою он смотрит без улыбки,
И проверяет, так ли я живу,
И отмечает всё мои ошибки…
Солдатской дружбы неостывший жар
В своей душе я берегу поныне,
Как завещал мне это санитар,
Убитый в сорок первом в Духовщине.
После госпиталя Матусовского снова оправили на фронт. Он прошёл всю войну от первого дня до последнего… Во время войны вышли сборники его стихов «Фронт», «Когда шумит Ильмень-озеро», в послевоенные годы - «Слушая Москву», «Улица мира» .
Редактор газеты «За Родину!» Николай Кружков познакомил Михаила с его будущей женой Женей. Через неделю с фронта Миша прислал ей свою фотографию со стихами:
Среди тишины московской ночи
И вокзальной сутолоки дня
Не забудьте, я прошу вас очень,
Вспоминайте изредка меня.
Жил на этом белом свете
Полюбивший сразу и навек
Очень добрый, очень неуклюжий,
В сущности, хороший человек.

Майор Михаил Матусовский с женой Евгенией. 1945 г.
Миша без конца звонил ей с фронта. Командующий в итоге сказал: «Этот майор, который работает в газете „За Родину!“, всё время звонит своей любимой. Пусть она уже приезжает на фронт, и они освободят телефон».
После войны, в 1948 году, поэт издал сборник «Слушая Москву», отдавая дань уважения городу, в котором прошла его молодость.
Рассказывая о своих детских и отроческих годах, Матусовский тепло вспоминал своих учителей. Особенно тепло он отзывался о своей учительнице литературы Марии Семеновне, у которой он писал и стихи, и прозу. Позже свою благодарность поэт выразит в стихотворении «Школьный вальс», музыку к которому написал И. Дунаевский, знаменитый советский композитор.
Популярность пришла к поэту после появления «Подмосковных вечеров» и «Школьного вальса» в 60-х годах. Игровой характер произведений, четко выраженная мелодичность вызвали интерес к произведениям поэта со стороны кинематографистов. Он написал тексты песен к кинофильмам «Верные друзья», «Испытание верности», «Неподдающиеся».
Над песнями к картинам «Фронт без флангов», «Тишина», «Щит и меч» Матусовский работал вместе с В. Баснером. Песни «На безымянной высоте» и «С чего начинается Родина» стали отражением судьбы целого поколения. Поэт также работал с В. Соловьевым-Седым, Т. Хренниковым. С последним Матусовский написал песни для картины «Верные друзья» («Лодочка», «Что так сердце растревожило», «Шуточная песня»).
Поэт также создал сценарии хроникально-документальных фильмов «Рабиндранат Тагор» (1961) и «Мелодии Дунаевского» (1964). «Подмосковные вечера» стали визитной карточкой картины «В дни Спартакиады», музыку к песне написал Соловьев-Седой.
Матусовский писал песни к самым разным фильмам: комедийным, драматическим, многосерийным и короткометражным, художественным и документальным. Он создавал произведения для разных исполнителей. Особенно он выделял работу с Леонидом Утесовым и Марком Бернесом, сумевшими прекрасно воплотить его лирическую тональность. Лучшие произведения Матусовского отличает особая искренность.
Михаил Львович был однолюбом и прекрасным семьянином. Вот что вспоминает о совместной жизни Михаилом Львовичем вдова Евгения Матусовская:
- Когда Михаил Львович вернулся с фронта, мы опять поселились в той же коммунальной квартире. Комната, перегороженная шкафом. По одну сторону - папа и мама, по другую - Миша, я и наша маленькая дочка Леночка, которая потом умерла. Матусовский писал свои стихи, держа тетрадку на коленях, так как у нас не было письменного стола. Однажды к нам в гости пришли Алигер, Долматовский, Симонов со своей первой женой Женей Ласкиной. Есть было нечего, мы жевали сухой чёрный хлеб и запивали его сырцом - неочищенной водкой. Несмотря на столь скудное угощение, всё равно было очень весело.
Затем нам дали жильё на Беговой улице. Как-то приготовила целую выварку фасолевого супа, который Михаил Львович обожал. Я подумала: «Ну, дня три будем питаться». И ушла в гости. Через некоторое время туда позвонил Миша и сказал жалобным голосом: «Женечка, а тебе очень нужен был этот суп?» - «Да». - «Я его нечаянно съел».
Михаил Львович писал стихи везде - на улице, в антрактах в театре и цирке. Кстати, цирк он ОБОЖАЛ! Одним из наших друзей был директор Большого театра. Он сказал: «Мишенька, пока я на посту, смотри спектакли». А Михаил Львович ответил: «Если бы ты был директором цирка, я бы к тебе ходил каждый день».
Матусовский был как дитя - очень непрактичный, не умел за себя постоять. И в то же время принципиальный: мог, рискуя, защитить другого человека. Его принцип: «Не прислоняться!». То есть ни у кого из тех, кто занимает высокие посты, не проси помощи - он никогда ни перед кем не пресмыкался…
В 1936-м Михаил и ещё один студент, Ян Сашин, написали для институтского вечера самодеятельности «Сиреневый туман». Прошло много лет. Однажды наша дочка Ира, которая училась в медицинском институте, пришла домой и говорит: «У нас весь курс поёт очень симпатичную песню». И напела. Михаил Львович воскликнул: «Боже мой! Это же моя песня! Я совершенно забыл, что мы с Яном её сочинили». Матусовскому очень трудно было восстановить авторство. Маргарита Алигер и все бывшие однокурсники Матусовского вспоминали, как Михаил её писал… Справедливость была восстановлена.
Михаил часто приходил нагруженный книжками. Мог потратить все наши деньги только на литературу. Причём всё, что покупал, обязательно прочитывал. Он был совершенно потрясающий отец и девочек наших приучил к книгам. Младшая дочь не очень любила читать. Поэтому Михаил Львович начинал чтение вслух и бросал… на самом интересном месте. Таким образом, он заставлял её дочитать книжку самой.
Когда мы потеряли старшую дочь, он сразу сник, так как просто не был готов к таким ударам судьбы. Незаслуженным ударам… Елена была крупнейшим специалистом по американской живописи. Но… Рак лёгких. Она была девочкой, зачатой на фронте. У неё было очень слабое здоровье. Её не смогли спасти. Михаил Львович и Леночка похоронены рядом…
Друг Михаила Львовича, Эльдар Рязанов, говорил: «Даже если бы Матусовский написал текст только одной песни „Подмосковные вечера“, то ему еще при жизни можно было памятник ставить».
Михаил Матусовский никогда не стеснялся того, что он из провинции. Наоборот, даже гордился тем, что луганчанин и земляк великого Владимира Даля, создателя «Толкового словаря живого великорусского языка»:
Сидят теперь четыре института
Над словарем одним.
А Даль все так же нужен почему-то,
А Даль незаменим.
Михаил Львович очень любил маму. Поговаривают, что однажды Матусовский зарекся приезжать в родной город из-за того, что еврейское кладбище, на котором похоронили Эсфирь Михайловну, было фактически превращено в городскую свалку. Тогда Матусовский написал гневное письмо в местный обком партии с требованием привести кладбище в надлежащий вид и не глумиться над могилами. Отказать знаменитому поэту власти не могли, но и наводить порядок тоже не собирались. Поэтому нашли иной выход. Обкомовцы предложили… перезахоронить тело матери Михаила Львовича на новом кладбище. Что и было сделано - уважаемый человек как бы доволен и убирать мусор не надо. К сожалению, в столь ужасающем состоянии это кладбище находится и по сей день.
В художественном творчестве Матусовский последнего периода заняла достойное место своеобразная мемуарная проза - «Семейный альбом». Автор, «сын фотографа, имеющего собственное ателье на улице южного города» повествовал о прошлом, о времени и современниках, как бы используя разные виды фотопамяти - карточки профессиональные и любительские, хорошо сохранившиеся и выцветшие. . У Матусовского есть воспоминания о П.Антокольском, М.Светлове, А.Фатьянове, о друзьях-фронтовиках Ю.Севруке, Б.Горбатове и др. Он является автором большого числа переводов - антологии украинской, казахской, туркменской, марийской поэзии, особенно интересны переводы Т.Шевченко, М.Бажана, С.Капутикян и С.Рустама.
Памятник Матусовскому установлен в Луганске на Красной площади возле Луганского государственного института культуры и искусств 15 сентября 2007 года. Он отображает любимый уголок поэта, стоящего возле скамейки, на которой лежит открытая книга. Фонарный столб, изрезанный надписями с установленным на нём громкоговорителем, символизирует военное время, на которое пришлось творчество Михаила Львовича.

Сам поэт как будто замер на мгновение, сочиняя новую строку. Возле памятника всегда лежат цветы. Межрегиональным союзом писателей учреждена литературная премия им. Михаила Матусовского для русскоязычных поэтов. В Музее истории и культуры города Луганска находится уникальная экспозиция, посвящённая жизни и творчеству Михаила Матусовского. В ней экспонируется рабочий кабинет, библиотека, личные вещи Михаила Львовича. Все вещи поступили по дарственному завещанию жены Матусовского – Евгении Акимовны Матусовской. Она очень хотела, чтобы всё, что сохранилось в семье, и было для неё так дорого, попало именно в Луганск. Установлена Памятная доска в Москве, где последние годы проживал поэт. В Луганске уже стало традицией проводить научные конференции, литературные конкурсы, концерты, фестивали песен посвященные М.Матусовскому.

Минули годы, нет поэта, не стало и той Великой России, которую он воспевал. Нам осталось его бесценное творческое наследие - песни, которые на фоне современных выглядят как прекрасные и величественные «жар-птицы» среди стаи серых ворон. Это Песни, живущие в вечности, ставшие, по сути, народными. Может ли быть бóльшая награда для поэта, чем стать частью речи своего народа, остаться вместе с чудесными мелодиями в сердцах миллионов соотечественников?
В нашем городе родился Матусовский. Сколько статей, материалов, публикаций, ему посвященных, увидели свет во всесоюзной и луганской прессе! Только ваш покорный слуга является автором трех очерков о Михаиле Львовиче. Так что, когда редактор обратился ко мне с предложением: «Напиши о Матусовском! Ты же у нас известный матусовед», я огорчилась и обрадовалась одновременно. Обрадовалась, потому что меня поставили в один ряд с пушкиноведами, далеведами... А огорчилась, ибо трудно раскопать или написать что-нибудь новенькое, свеженькое и сенсационное об этом человеке. Все уже писано-переписано... Ну, не заниматься же компиляцией! Однако, стоп, сказала я себе. Попробуй сочинить так, как не сочинял о поэте никто, включая тебя. Поломав денька два голову, я поняла, КАК и ЧТО следует писать о человеке, чьи песни очаровали весь Советский Союз, да и весь мир! Думаете, преувеличиваю? Отнюдь. Недавно киевские студенты сняли любительский фильм о своих путешествиях, показанных, впрочем, в кинотеатрах. Называется он «Стул» или что-то в этом роде. Так вот, в Китае украинцы засняли местных жителей, с удовольствием распевающих... «Подмосковные вечера» на языке оригинала! Это ли — не популярность?!
МАТУСОВСКИЙ Михаил Львович. Родился 10 (по новому стилю 23) июля 1915 г. в Луганске. Участник второй мировой войны, Награжден орденом Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, медалями. На фронте вступил в КПСС.
В 1977 г. М. Матусовскому присуждена Госпремия СССР за стихи, положенные в основу песен: «Березовый сок», «Мне вспомнились снова», «Песня о гудке», «Шахтерская песня», «Такая короткая долгая жизнь», «В сердце у меня». В годы жизни поэта были выпущены сборники его стихов: «Моя родословная», «Фронт», «Слушая Москву», «Не забывай», «Все, что мне дорого», «Подмосковные вечера», «Тень человека». Посмертное издание его стихов называлось «Горечь». Михаил Матусовский гордился званием «поэт-песенник». Многие стихи и песни он посвятил родному Луганску. М. Матусовский — автор д/ф «Рабиндранат Тагор». Скончался 16 июля 1990 г. Похоронен в Москве.
«Играете ли Вы на балалайке?»
Наверное, лучше всего написал о Матусовском... сам Матусовский в автобиографической повести «Семейный альбом». Помню, когда читала ее впервые, несколько раз плакала, а уж сколько смеялась! Михаил Львович был человеком, обладавшим превосходным чувством юмора, а самое главное, самоиронией. Он высмеивал свои недостатки: полноту, неумение ездить верхом и прочая. Притом, оставаясь человеком скромным и деликатным.
Его друг и собрат по перу поэтесса Маргарита Алигер вспоминала один случай в Италии. С группой советских литераторов они отдыхали в Венеции. И тут М. Матусовский увидел, как американские туристы садятся в гондолу. Он возьми да скажи: «Интересно, какие песни предпочитает слушать буржуазия?» А гондольер запел «Подмосковные вечера». М. Алигер пишет, что Михаил был в полном смятении и сильно смущен Жаль только. что случай этот Алигер приводит в некрологе, написанном на смерть поэта.
Все же разные смешные и забавные истории сопровождали нашего земляка всю жизнь. Но об этом — чуть позже. Сейчас мнение автора по поводу своего детища: «Не скрою, мне было приятно встречаться с «Подмосковными вечерами» и на знойных, не остывающих даже к ночи улицах африканских городов, и в трагической Хиросиме, и в гостеприимных домах наших друзей на Филиппинах».
Кстати, о Филиппинах. Михаил Матусовский с супругой был в числе первых советских туристов, принятых тамошним президентом Ф.Маркосом. Филиппинская пресса уделила максимум внимания поэту. Одна из газет писала: «Нам было приятно убедиться, что русские, как и мы, по утрам чистят зубы». А корреспондентка газеты «Манила Тайме» на полном серьезе спрашивала Евгению Матусовскую, жену поэта: «Играете ли Вы и Ваши дочери на балалайке?»
В столице Филиппин Маниле Матусовским пришлось пережить нешуточную опасность - семибалльное землетрясение, когда отель, в котором они остановились, раскачивало, как былинку. В беседе с поэтом президент Маркос остроумно заметил: «Останьтесь еще посмотреть на наши тайфуны, тогда Вы станете настоящим филиппинцем». Но до этого дело не дошло.
«И дух еврейского борща — Вся родословная моя»
Что предопределило судьбу поэта? Родился в обычном заштатном провинциальном городке, Семья? Семья была известна в городе. Отец - Лев Моисеевич - самый популярный фотограф, уважаемый человек. Держал собственное ателье на главной улице Луганска — Петербургской. От клиентов не было отбоя.
Nota bene: Л. М. Матусовский родился в 1884 г. в Воронежской губернии. Из мещан. Вместе с родителями переехал в Луганск, где увлекся фотоделом. Свой фотосалон открыл в 1912 г. В 1918 - 1920 г.г. Л.Матусовский - фотограф ЧК. С 1920 по 1926 г.г. - фотограф Окружного исполкома. После смерти жены, Эсфирь Михайловны (в девичестве - Брукман), переехал к сыну в Москву. Скончался в 1956 г. в возрасте 72 лет. Похоронен в Москве.
Мать Михаила была домохозяйкой. Хорошо готовила рыбу - «фиш», национальное еврейское блюдо. Была женщиной по-житейски мудрой. Матусовский очень любил родителей, написал много стихотворений, им посвященных. Старший брат Михаила - Матвей (Моисей) стал инженером.
После рождения, как над всяким иудеем, над Михаилом совершил обряд обрезания луганский ребе (запись об этом сохранилась в книге Еврейской общины, что хранится в Госархиве Луганской области).
Замечу, что в последствии еврейская тема мало занимала поэта. Он же был советским гражданином. Как видим, пресловутая 5-я графа в паспорте ему не помешала стать знаменитым. Сам Матусовский, вспоминая о своем ранении на фронте, сказал об этом так:
«И когда горячий вал
Жаром обдавал кюветы,
Никого не волновал
Пятый пункт моей анкеты».
(1990 г.)
«Кирпичный дом и дым жилья,
И запах мокрого белья,
И дух еврейского борща —
Вся родословная моя».
Хотя несколько сильнее фокусируется Михаил Львович на, как это говорится теперь, ХОЛОКОСТЕ. В «Семейном альбоме» он много и часто вспоминает родственников и знакомых, расстрелянных немцами в период оккупации Ворошиловграда (дядя Соломон, соседка Анна Моисеевна). Подробно описывает свою экскурсию в концлагерь ЗАКСЕНХАУЗЕН. Много пишет о крематории (попасть туда на языке обитателей лагеря с юмором называлось «вылететь в трубу»). Все это он подытожил фразой: «Иногда ночью, когда не помогает ни димедрол, ни родедорм, а до рассвета еще далеко, мне кажется, что я слышу чужой, резкий голос, имеющий почему-то власть надо мною. Он называет мою фамилию, и я должен подняться и занять место в последнем ряду ожидающей меня колонны. Впрочем, рассказать об этом невозможно. Это надо почувствовать самому». Что ж, у каждого свои, личные ночные кошмары. Однако мы отвлеклись. Мне представляется, что вообще детство у Михаила было счастливым. В семье — не роскошь, но достаток, любящие родители, друзья, учеба, прогулки по родному городу, и конечно, стихи. Их он начал сочинять еще в детстве. А первое его стихотворение было опубликовано в 1927 г. в «Луганской правде». Автору тогда едва исполнилось 12 лет.
Примерно в то же время Миша начал посещать юношеское объединение при писательской организации «Забой», куда хаживали его друзья - поэты: Юрий Черкасский, Микола Упеник, Лев Галкин...
Первым доброжелательным критиком стихов была его учительница Мария Семеновна Тодорова. В школе №13, где учился Миша, она преподавала русский язык и литературу. Матусовский позже вспоминал, что «круглолицая, да и вся какая-то кругленькая, легкая, она вкатывалась в класс, как колобок. Портфель у Марии Семеновны тоже был крепкий, черной кожи, набитый нашими диктантами». Именно М.С.Тодоровой поэт впоследствии посвятит песню о школе, о первой, любимой учительнице «Школьный вальс».
Миша любил Луганск. В «Семейном альбоме» зрелый уже человек и поэт напишет много добрых, теплых слов о городе и своих земляках. Вспоминал он и довоенный, так переменившийся теперь Луганск: «Наискосок от школы, как раз на углу Полтавского переулка, в бывшем доме Стефановича помещался краеведческий музей. А перед входом в него была установлена каменная скифская баба». (Дом этот разрушен во время войны — Авт).
«Всем гусям гусь!»
После школы Миша окончил строительный техникум. И хотя вначале он стремился туда попасть, потом оказалось, что «учиться в техникуме скучно Некоторое разнообразие вносит только пожарная команда, расположенная тут же. во дворе» Все дело в том, что в начале 1930-х годов строительный техникум находился в здании бывшей городской думы. А пожарная часть базировалась там еще с конца XIX века. Ныне в этом здании располагается Музей истории и культуры г.Луганска).
Матусовский участвовал в строительстве медпункта на территории завода ОР. Кажется, это строение дожило до наших дней. Но Михаил чувствовал: стройка - это не для него. Для него — стихи Если воспользоваться для случая поговоркой, позаимствованной у одной из героинь Шолом Алейхема: «Перемена места — перемена счастья», то у Матусовского как раз так и получилось. Он уехал в Москву. В 1935 г. поступил в Литинститут им. Горького на филологический факультет. Институт подарил ему новых друзей. прежде всего К.Симонова. Вместе они даже посетили Луганск на летних каникулах в 1937 г. Результатом посещения стала книжка «Луганчане», написанная в соавторстве и изданная в Москве в 1939 г. Матусовский прибыл в столицу, по его собственному признанию, с полным чемоданом стихов. Что ж, как поется в одной известной песне (правда, не на стихи нашего земляка): «Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая». Так столица необъятной империи приняла в свои объятия юношу из провинции.
Во время учебы в институте с Михаилом вновь происходят разные забавные истории. Например, такой курьез...
«Однажды в середине зимы я перестал вдруг являться на лекции, день, другой, целую неделю. Друзья забеспокоились: не может быть, чтобы я просто так без серьезных причин манкировал своими обязанностями. Значит, я тяжко захворал». А.Раскин, друг и однокашник поэта, приехал к нему на съемную квартиру в Мытищи электричкой. Он нашел Матусовского радостным и… поедающим гуся. «Это был Гусь с большой буквы. Огромный, покрытый золотой хрустящей корочкой. Бросить такого гуся и ехать слушать лекции было выше моих сил. Я не ел гуся, я работал над ним. Щеки мои, подбородок, уши лоснились от гусиного жира».
Гуся Михаилу прислали из дому, а холодильники тогда еще не вошли в быт советских студентов, и зимой продукты, чтобы не испортились, вешали за окно, т.к. балконы были не у всех.
Начало войны помешало Матусовскому защитить кандидатскую. Тогда, в качестве исключения, защиту провели без диссертанта. Как и другие поэты и писатели, Матусовский уходит на фронт в качестве фронтового корреспондента. Летом 1941 г. он был ранен, но снова вернулся в строй. Фронтовые дороги вели его через Польшу в Германию. Однажды на боевые позиции к нему приехала жена Евгения Акимовна.
Nota bene: Что лично меня удивило в книге «Семейный альбом»? М. Матусовский уделил своей красавице-супруге лишь несколько строк! И это при том, что своей первой любви-девочке Аде из Луганска он не пожалел несколько страниц текста! Тем не менее Евгении он посвятил немало стихов. В чем же дело? Поэт был женат единожды, и надо полагать, счастливо. Думаю, в этом тоже сказалась скромность Михаила Львовича. Не хотел выносить на публику свои чувства. Так что тайну встречи и знакомства с Евгенией он «оставил за кулисами».
После войны наступил звездный час для Матусовского. Если до нее Михаил Львович не выбивался из общего ряда столич-ных поэтов, то теперь ситуация меняется. Славил Сталина в стихах? Что ж, было. А кто тогда не славил? Все славили. (Ну-ну, не все, возразит читатель, и будет прав. Только у тех, других, и дорога была другая, не усыпанная розами, а. крестная). В сборниках стихов Матусовского, изданных в 1930-1940-е годы, много строф о вожде, Так сказать, дань эпохе. В годы перестройки их стыдливо не переиздают. А тогда, как и для всех, Сталин для Матусовского - великан духа, великий, могучий правитель:
«... Пусть звучит
первомайская слава
Человеку в московском Кремле,
Кем сильна
и бессмертна держава,
Кто весну возродил на зелпе».
(«Весна мастеров». 1947 г.)
Времена меняются. Люди — нет. Кое-кто из современных луганских поэтов/поэтесс может похвалиться своими стихами в честь «вождей» уже нашего часа, благодаря которым тоже «солнце встает». Достаточно вспомнить опубликованную в 2005-м в «Ракурсе» оду Ефремову сочинения Татьяны Дейнегиной.
«Я песне отдал все сполна...»
«...В ней жизнь моя, моя забота.
Ведь людям песня
так нужна
Как птицам крылья
для полета».
Так в одном из стихотворений поэт-песенник М.Матусовский очертил значение песни лично для него и для своих читателей и слушателей. Михаил Львович плодотворно сотрудничал с разными композиторами: В. Баснером, В. Шаинским, А. Пахмутовой, Т.Хренниковым... Много
песен написал для кино. Это - настоящие шлягеры: «Старый клен», «На безымянной высоте», романс «Белой акации гроздья душистые», «С чего начинается Родина?» — всех не перечесть! Матусовский — автор текстов более чем к двумстам песням! Для детей он написал «Крейсер «Аврора» и «Вместе весело шагать».
Как же рождается песня? «Я не вправе говорить от всех поэтов, работающих в песенном жанре, но лично я предпочитаю способ в соответствии с древним изречением: «вначале было слово». Несколько раз я соглашался писать стихи на готовую музыку. Как правило, из этого ничего хорошего не получалось».
Какие же качества ценил Матусовский в песне? «Песня требует хрестоматийной простоты, соразмерности всех частей, органичности перехода запева в припев, полной естественности и непосредственности. В песне предпочтительнее даже некоторая наивность, нежели вычурная надуманность и тяжеловесность».
О судьбе песни мэтр рассуждает так: «Вообще пути песни загадочны и неисповедимы. Я бы мог назвать десятки песен, которые писал с полной отдачей сил, а их почему-то не поют». Поначалу так было и с песней «Вологда», написанной М.Матусовским и Б. Мокроусовым для спектакля Малого театра «Белые облака ». И только когда текст изменит В.Мулявин и исполнили «Песняры», она стала хитом.
Матусовский не забывает родной город. В 1975 г. он приезжает на встречу с одноклассниками: «Я снова шел привычной дорогой в школу, мимо ж/д переезда, где давным-давно бабы торговали баранками с маком и самодельными разноцветными конфетами». Каждый приезд мэтра освещает газета «Луганская правда». Так было и в 1946 г., так было и в 1987 г., когда Матусовский прибыл на празднование Дня Победы. Тогда ему сообщили радостную новость о присвоении звания «Почетный гражданин г. Ворошиловграда». Вот незаезженные нашими знатоками творчества поэта Матусовского строки о природе родного края: «Спят звезды на покатом небосводе, обозы спят, спят суслики в степи...» . Или: «Давно укрыли зверобой и мята становищ тех остывшую золу./ Здесь воин князя Игоря когда-то в траву случайно выронил стрелу» . А вот шутливый поэтический портрет дореволюционного хозяина паровозостроительного завода Г.Гартмана:
«Я помню Гартмана-отца
В полупальто коротком.
Квадрат багрового лица
С филейным подбородком».
А вот как иллюстрирует в одном из стихотворений М.Матусовский работу своего отца-фотографа:
«Отец снимал худых девиц,
В интимной позе
светских львиц,
И много плоских, как стена,
И улыбающихся лиц».
Удачными получились стихотворения М.Матусовского: «Украинский календарь», «В музее Даля в Луганске», «Опять я был на родине в Донбассе...»
Последние годы жизни М.Матусовский провел на даче в Подмосковье. Сейчас в Москве живут его внуки. Осталось и главное наследие - песни, которые на фоне современных уродливых кричалок-пищалок-однодневок выглядят прекрасными «жар-птицами» среди стаи бесцветных кур.
Маркевич А. Михаил Матусовский / А. Маркевич // Время Луганска. - 2007. - №7. - С. 18-19Биография
Родился в Луганске в семье известного фотографа, владельца фотоателье в центре города, а впоследствии лишенца Льва Моисеевича Матусовского и его жены Эсфири Михайловны.
Учился и закончил 13 среднюю школу г. Луганск. Своей первой учительнице Марии Семёновне Тодоровой он впоследствии посвятит свою песню «Школьный вальс».
Окончив строительный техникум в Луганске, Михаил Львович стал работать на заводе. В это же время начал печатать свои стихи в местных газетах и журналах.

Памятник Матусовскому в Луганске
Во время войны вышли сборники стихов: «Фронт» (1942), «Когда шумит Ильмень-озеро» (1944); в послевоенные годы – сборники и книги стихов и песен: «Слушая Москву» (1948), «Улица мира» (1951), «Всё, что мне дорого» (1957», «Стихи остаются в строю» (1958), «Подмосковные вечера» (1960), «Как поживаешь, Земля» (1963), «Не забывай» (1964), «Тень человека. Книга стихотворений о Хиросиме, о её борьбе и её страданиях, о её людях и её камнях» (1968), «Это было недавно, это было давно» (1970), «Суть: стихи и поэмы» (1979), «Избранные произведения в двух томах» (1982), «Семейный альбом» (1983) и многие другие.
Памятник Матусовскому установлен в Луганске на Красной площади возле ЛГИКИ.
Очень символично, что памятник установлен возле Луганского государственного института культуры и искусств. Этот тихий уголок на Красной площади, среди елей и каштанов, защищённый от шума и суеты. Студенты института каждый день проходят мимо этого места и образ поэта как бы присутствует среди них. Сам памятник так же отображает любимый уголок поэта, стоящего возле скамейки, на которой лежит открытая книга. Голуби не боясь присутствия Михаила Львовича, мирно воркуют рядом. Фонарный столб, изрезанный надписями с установленным на нём громкоговорителем, символизирует военное время, на которое пришлись творчество Михаила Львовича. Сам поэт как будто замер на мгновение, сочиняя новую строку. Возле памятника всегда лежат цветы. Это дань луганчан своему великому земляку.
Сочинения
Поэзия
- Луганчане: Книга стихов и прозы. М., 1939
- Моя родословная. М., 1940
- Фронт: Книга стихов. М., 1942
- Песня об Айдогды Тахирове и его друге Андрее Савушкине. Ашхабад, 1943
- Когда шумит Ильмень-озеро: Стихи. М., 1944
- Стихи. М., 1946
- Слушая Москву: Стихи. М., 1948
- Улица мира: Стихи. М., 1951
- Всё, что мне дорого: Стихи и песни. М., 1957
- Стихи остаются в строю. М.. 1958
- Подмосковные вечера: Стихи и песни. М., 1960
- Как поживаешь, Земля: Книга стиха и песен. М., 1963
- Не забывай: Песни. М., 1964
- Тень человека: Книга стихотворений о Хиросиме, о её борьбе и её страданиях, о её людях и её камнях. М., 1968
- Это было недавно, это было давно: Стихи. М., 1970
- Суть: Стихи и поэмы. М., 1979
- Избранные произведения: В 2 томах М., 1982
- Семейный альбом. М., 1983
Популярные песни на стихи М. Матусовского
- «А туман на луга ложится» (муз. В. Баснера) - исп. Эдуард Хиль
- «Ах, какие сегодня зарницы» (муз. В. Баснера) - исп. Эдуард Хиль
- «Баллада о солдате» (Муз. В. Соловьёва-Седого) - исп. Сергей Захаров, Эдуард Хиль
- «Баллада о фронтовом кинооператоре» (муз. В. Баснера) - исп. Герман Орлов
- «Белой акации гроздья душистые» (муз. В. Баснера) из к/ф «Дни Турбиных» - исп. Людмила Сенчина
- «Берёзовый сок» (муз. В. Баснера) - исп. Леонид Борткевич (ВИА «Песняры»)
- «Была судьба» (муз. В. Баснера) - исп. Галина Ковалёва, Эдуард Хиль, Любовь Исаева
- «В дни войны» (муз. А. Петрова) из к/ф «Батальоны просят огня » - исп. Николай Караченцов
- «В этот праздничный час» (муз. И. Дунаевского) - исп. Любовь Казарновская
- «Вернулся я на Родину» (муз. М. Фрадкина) - исп. Юрий Богатиков
- «Вечер вальса» (муз. И. Дунаевского) - исп. Георгий Виноградов
- «Вместе весело шагать» (муз. В. Шаинского) - исп. Большой Детский хор Гостелерадио п/у Виктора Попова
- «Вологда» (муз. Б. Мокроусова) - исп. Анатолий Кашепаров (ВИА «Песняры »), Владимир Нечаев. Написана для спектакля «Белые облака» (Малый театр , , реж. Е. Р. Симонов , первый исполнитель - Михаил Новохижин )
- «Грузовичок - фронтовичок» (муз. В. Баснера) - исп. Лев Барашков
- «Дорожная песенка» (муз. В. Баснера) - исп. Эдуард Хиль
- «И только потому мы победим» (муз. В. Баснера) - исп. Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль
- «Идёт влюблённый человек» (муз. О. Фельцмана) - исп. Георг Отс
- «Идёт рабочий класс» (муз. В. Баснера) - исп. Академический Большой хор Гостелерадио
- Из к/ф Испытание верности (Муз. И. Дунаевского)
- «Как, скажи, тебя зовут» (муз. В. Баснера) - исп. Эдуард Хиль
- «Крейсер „Аврора“» (Муз. В. Шаинского) из м/ф «Аврора» (реж. Р.Качанов) - исп. Большой Детский хор Гостелерадио п/у Виктора Попова
- «Крестики - нолики» (муз. В. Баснера) - исп. Таисия Калинченко и Эдуард Хиль
- «Летите, голуби, летите…» (Муз. И. Дунаевского) - исп. Большой Детский хор Гостелерадио
- «Лодочка» (муз. Т. Хренникова) - исп. Валентина Толкунова
- «Махнём не глядя» (муз. В. Баснера) - исп. Виталий Копылов
- «Мне вспомнились снова» (муз. В. Баснера) - исп. Павел Кравецкий
- «Московские окна» (муз. Т. Хренникова) - исп. Иосиф Кобзон
- «Моя родимая земля» (муз. В. Баснера) - исп. Павел Кравецкий
- «Мы дети военной поры» (муз. В. Баснера) - исп. Детский хор Ленинградского Радио и ТВ
- «На безымянной высоте» (на музыку Вениамина Баснера) из к/ф «Тишина » (реж. В. Басов) - исп. Юрий Гуляев, Лев Барашков, Юрий Богатиков
- «Не ищите ландышей в месяце апреле» (муз. В. Баснера) - исп. Людмила Сенчина
- «Незабытая песня» (муз. М. Блантера) - исп. Юрий Гуляев, Алибек Днишев
- «Ночь за стеной» (муз. В. Баснера) из к/ф «Возвращение к жизни»
- «Ну почему ко мне ты равнодушна» (муз. В. Шаинского) из к/ф «И снова Анискин» - исп. Андрей Миронов
- «О „Шарике“ родном» (муз. С. Каца) - исп. Виктор Селиванов
- «Один на один» (муз. В. Баснера) из к/ф «3 % риска» - исп. Александр Хочинский
- «Песня о гудке» (муз. Э. Колмановского)
- «Песня о дружбе» или «Верные друзья» Из к/ф «Верные друзья » (реж. М.Калатозов , муз. Т. Хренникова) - исп. Муслим Магомаев
- «Пилот не может не летать» (муз. В. Баснера) - исп. Эдуард Хиль
- «Пишите нам, подружки» (муз. И. Дунаевского) - исп. М. Киселёв
- «Пограничная застава» (муз. В. Баснера) - исп. Эдуард Хиль
- «Подмосковные вечера» (на музыку Василия Соловьёва-Седого) - исп. Владимир Трошин
- «Позывные» (муз. В. Шаинскиз к/ф «И снова Анискин» - исп. Иосиф Кобзон
- «Поле Куликово» (муз. Т. Хренникова) - исп. Иосиф Кобзон
- «Поручение» (муз. И. Дунаевского)
- «Прощайте, голуби» (муз. М. Фрадкина) - исп. В. Толкунова и группа БДХ Гостелерадио
- «Романс Лапина» или «Что так сердце растревожено» (муз. Т. Хренникова) - исп. Муслим Магомаев
- «С чего начинается Родина» (муз. В. Баснера) из к/ф «Щит и меч » (реж. В. Басов) - исп. Марк Бернес
- «Сиреневый туман» (муз. Я. Сашина) - исп. Владимир Маркин
- «Скворцы прилетели» (Муз. И. Дунаевского)
- «Солдат - всегда солдат» (муз. В. Соловьёва-Седого) - исп. Краснознамённый ансамбль им. Александрова
- «Старый клён» (муз. А. Пахмутовой) из к/ф «Девчата» - исп. Алла Абдалова и Лев Лещенко
- «Та река, где ты родился» (муз. В. Баснера) - исп. Людмила Сенчина и Эдуард Хиль
- «Танго» или «Есть у тебя талант» (муз. В. Баснера) - исп. Андрей Миронов
- «Ты и я» (муз. В. Баснера) - исп. Валентина Толкунова и Леонид Серебренников
- «Хорошие девчата» (муз. А. Пахмутовой) из к/ф «Девчата»
- «Чёрное море моё» («…Самое синее в мире, Чёрное море моё…») (муз. О. Фельцмана) - исп. Георг Отс
- «Школьный вальс» («Давно, друзья весёлые, простились мы со школою…») (муз. И. Дунаевского) - исп. В. Бунчиков, М. Пахоменко
- «Это было недавно» (муз. В. Баснер) - исп. Олег Анофриев
Литература
- Хозиева С. И. Русские писатели и поэты: Краткий биографический словарь. - М.: Рипол Классик, 2002. - 576 с. - ISBN 5-7905-1200-3 .
Ссылки
- Михаил Матусовский. Стихи. Биография. Фото на сайте «Лучшие русские поэты и стихи»
- Марина Волкова, Владислав Куликов . Секрет дома с резным палисадом. Знаменитой песне «Вологда» исполняется тридцать лет // Российская газета, 2005, октябрь
- История создания песни «Вологда» (фрагменты из книги воспоминаний солиста ансамбля «Песняры» Владимира Николаева)
В нашем городе родился Матусовский. Сколько статей, материалов, публикаций, ему посвященных, увидели свет во всесоюзной и луганской прессе! Только ваш покорный слуга является автором трех очерков о Михаиле Львовиче. Так что, когда редактор обратился ко мне с предложением: «Напиши о Матусовском! Ты же у нас известный матусовед», я огорчилась и обрадовалась одновременно. Обрадовалась, потому что меня поставили в один ряд с пушкиноведами, далеведами... А огорчилась, ибо трудно раскопать или написать что-нибудь новенькое, свеженькое и сенсационное об этом человеке. Все ужу писано-переписано... Ну, не заниматься же компиляцией! Однако, стоп, сказала я себе. Попробуй сочинить так, как не сочинял о поэте никто, включая тебя. Поломав денька два голову, я поняла, КАК и ЧТО следует писать о человеке, чьи песни очаровали весь Советский Союз, да и весь мир! Думаете, преувеличиваю? Отнюдь. Недавно киевские студенты сняли любительский фильм о своих путешествиях, показанных, впрочем, в кинотеатрах. Называется он «Стул» или что-то в этом роде. Так вот, в Китае украинцы засняли местных жителей, с удовольствием распевающих... «Подмосковные вечера» на языке оригинала! Это ли — не популярность?!
МАТУСОВСКИЙ Михаил Львович. Родился 10 (по новому стилю 23) июля 1915 г. в Луганске. Участник второй мировой войны, Награжден орденом Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, медалями. На фронте вступил в КПСС.
В 1977 г. М. Матусовскому присуждена Госпремия СССР за стихи, положенные в основу песен: «Березовый сок», «Мне вспомнились снова», «Песня о гудке», «Шахтерская песня», «Такая короткая долгая жизнь», «В сердце у меня». В годы жизни поэта были выпущены сборники его стихов: «Моя родословная», «Фронт», «Слушая Москву», «Не забывай», «Все, что мне дорого», «Подмосковные вечера», «Тень человека». Посмертное издание его стихов называлось «Горечь». Михаил Матусовский гордился званием «поэт-песенник». Многие стихи и песни он посвятил родному Луганску. М. Матусовский — автор д/ф «Рабиндранат Тагор». Скончался 16 июля 1990 г. Похоронен в Москве.
«Играете ли Вы на балалайке?»
Наверное, лучше всего написал о Матусовском... сам Матусовский в автобиографической повести «Семейный альбом». Помню, когда читала ее впервые, несколько раз плакала, а уж сколько смеялась! Михаил Львович был человеком, обладавшим превосходным чувством юмора, а самое главное, самоиронией. Он высмеивал свои недостатки: полноту, неумение ездить верхом и прочая. Притом, оставаясь человеком скромным и деликатным.
Его друг и собрат по перу поэтесса Маргарита Алигер вспоминала один случай в Италии. С группой советских литераторов они отдыхали в Венеции. И тут М. Матусовский увидел, как американские туристы садятся в гондолу. Он возьми да скажи: «Интересно, какие песни предпочитает слушать буржуазия?» А гондольер запел «Подмосковные вечера». М. Алигер пишет, что Михаил был в полном смятении и сильно смущен Жаль только. что случай этот Алигер приводит в некрологе, написанном на смерть поэта.
Все же разные смешные и забавные истории сопровождали нашего земляка всю жизнь. Но об этом — чуть позже. Сейчас мнение автора по поводу своего детища: «Не скрою, мне было приятно встречаться с «Подмосковными вечерами» и на знойных, не остывающих даже к ночи улицах африканских городов, и в трагической Хиросиме, и в гостеприимных домах наших друзей на Филиппинах».
Кстати, о Филиппинах. Михаил Матусовский с супругой был в числе первых советских туристов, принятых тамошним президентом Ф.Маркосом. Филиппинская пресса уделила максимум внимания поэту. Одна из газет писала: «Нам было приятно убедиться, что русские, как и мы, по утрам чистят зубы». А корреспондентка газеты «Манила Тайме» на полном серьезе спрашивала Евгению Матусовскую, жену поэта: «Играете ли Вы и Ваши дочери на балалайке?»
В столице Филиппин Маниле Матусовским пришлось пережить нешуточную опасность - семибалльное землетрясение, когда отель, в котором они остановились, раскачивало, как былинку. В беседе с поэтом президент Маркос остроумно заметил: «Останьтесь еще посмотреть на наши тайфуны, тогда Вы станете настоящим филиппинцем». Но до этого дело не дошло.
«И дух еврейского борща — Вся родословная моя»
Что предопределило судьбу поэта? Родился в обычном заштатном провинциальном городке, Семья? Семья была известна в городе. Отец - Лев Моисеевич - самый популярный фотограф, уважаемый человек. Держал собственное ателье на главной улице Луганска — Петербургской. От клиентов не было отбоя.
Nota bene: Л. М. Матусовский родился в 1884 г. в Воронежской губернии. Из мещан. Вместе с родителями переехал в Луганск, где увлекся фотоделом. Свой фотосалон открыл в 1912 г. В 1918 - 1920 г.г. Л.Матусовский - фотограф ЧК. С 1920 по 1926 г.г. - фотограф Окружного исполкома. После смерти жены, Эсфирь Михайловны (в девичестве - Брукман), переехал к сыну в Москву. Скончался в 1956 г. в возрасте 72 лет. Похоронен в Москве.
Мать Михаила была домохозяйкой. Хорошо готовила рыбу - «фиш», национальное еврейское блюдо. Была женщиной по-житейски мудрой. Матусовский очень любил родителей, написал много стихотворений, им посвященных. Старший брат Михаила - Матвей (Моисей) стал инженером.
После рождения, как над всяким иудеем, над Михаилом совершил обряд обрезания луганский ребе (запись об этом сохранилась в книге Еврейской общины, что хранится в Госархиве Луганской области).
Замечу, что в последствии еврейская тема мало занимала поэта. Он же был советским гражданином. Как видим, пресловутая 5-я графа в паспорте ему не помешала стать знаменитым. Сам Матусовский, вспоминая о своем ранении на фронте, сказал об этом так:
«И когда горячий вал
Жаром обдавал кюветы,
Никого не волновал
Пятый пункт моей анкеты».
(1990 г.)
«Кирпичный дом и дым жилья,
И запах мокрого белья,
И дух еврейского борща —
Вся родословная моя».
Хотя несколько сильнее фокусируется Михаил Львович на, как это говорится теперь, ХОЛОКОСТЕ. В «Семейном альбоме» он много и часто вспоминает родственников и знакомых, расстрелянных немцами в период оккупации Ворошиловграда (дядя Соломон, соседка Анна Моисеевна). Подробно описывает свою экскурсию в концлагерь ЗАКСЕНХАУЗЕН. Много пишет о крематории (попасть туда на языке обитателей лагеря с юмором называлось «вылететь в трубу»). Все это он подытожил фразой: «Иногда ночью, когда не помогает ни димедрол, ни родедорм, а до рассвета еще далеко, мне кажется, что я слышу чужой, резкий голос, имеющий почему-то власть надо мною. Он называет мою фамилию, и я должен подняться и занять место в последнем ряду ожидающей меня колонны. Впрочем, рассказать об этом невозможно. Это надо почувствовать самому». Что ж, у каждого свои, личные ночные кошмары. Однако мы отвлеклись. Мне представляется, что вообще детство у Михаила было счастливым. В семье — не роскошь, но достаток, любящие родители, друзья, учеба, прогулки по родному городу, и конечно, стихи. Их он начал сочинять еще в детстве. А первое его стихотворение было опубликовано в 1927 г. в «Луганской правде». Автору тогда едва исполнилось 12 лет.
Примерно в то же время Миша начал посещать юношеское объединение при писательской организации «Забой», куда хаживали его друзья - поэты: Юрий Черкасский, Микола Упеник, Лев Галкин...
Первым доброжелательным критиком стихов была его учительница Мария Семеновна Тодорова. В школе №13, где учился Миша, она преподавала русский язык и литературу. Матусовский позже вспоминал, что «круглолицая, да и вся какая-то кругленькая, легкая, она вкатывалась в класс, как колобок. Портфель у Марии Семеновны тоже был крепкий, черной кожи, набитый нашими диктантами». Именно М.С.Тодоровой поэт впоследствии посвятит песню о школе, о первой, любимой учительнице «Школьный вальс».
Миша любил Луганск. В «Семейном альбоме» зрелый уже человек и поэт напишет много добрых, теплых слов о городе и своих земляках. Вспоминал он и довоенный, так переменившийся теперь Луганск: «Наискосок от школы, как раз на углу Полтавского переулка, в бывшем доме Стефановича помещался краеведческий музей. А перед входом в него была установлена каменная скифская баба». (Дом этот разрушен во время войны — Авт).
«Всем гусям гусь!»
После школы Миша окончил строительный техникум. И хотя вначале он стремился туда попасть, потом оказалось, что «учиться в техникуме скучно Некоторое разнообразие вносит только пожарная команда, расположенная тут же. во дворе» Все дело в том, что в начале 1930-х годов строительный техникум находился в здании бывшей городской думы. А пожарная часть базировалась там еще с конца XIX века. Ныне в этом здании располагается Музей истории и культуры г.Луганска).
Матусовский участвовал в строительстве медпункта на территории завода ОР. Кажется, это строение дожило до наших дней. Но Михаил чувствовал: стройка - это не для него. Для него — стихи Если воспользоваться для случая поговоркой, позаимствованной у одной из героинь Шолом Алейхема: «Перемена места — перемена счастья», то у Матусовского как раз так и получилось. Он уехал в Москву. В 1935 г. поступил в Литинститут им. Горького на филологический факультет. Институт подарил ему новых друзей. прежде всего К.Симонова. Вместе они даже посетили Луганск на летних каникулах в 1937 г. Результатом посещения стала книжка «Луганчане», написанная в соавторстве и изданная в Москве в 1939 г. Матусовский прибыл в столицу, по его собственному признанию, с полным чемоданом стихов. Что ж, как поется в одной известной песне (правда, не на стихи нашего земляка): «Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая». Так столица необъятной империи приняла в свои объятия юношу из провинции.
Во время учебы в институте с Михаилом вновь происходят разные забавные истории. Например, такой курьез...
«Однажды в середине зимы я перестал вдруг являться на лекции, день, другой, целую неделю. Друзья забеспокоились: не может быть, чтобы я просто так без серьезных причин манкировал своими обязанностями. Значит, я тяжко захворал». А.Раскин, друг и однокашник поэта, приехал к нему на съемную квартиру в Мытищи электричкой. Он нашел Матусовского радостным и… поедающим гуся. «Это был Гусь с большой буквы. Огромный, покрытый золотой хрустящей корочкой. Бросить такого гуся и ехать слушать лекции было выше моих сил. Я не ел гуся, я работал над ним. Щеки мои, подбородок, уши лоснились от гусиного жира».
Гуся Михаилу прислали из дому, а холодильники тогда еще не вошли в быт советских студентов, и зимой продукты, чтобы не испортились, вешали за окно, т.к. балконы были не у всех.
Начало войны помешало Матусовскому защитить кандидатскую. Тогда, в качестве исключения, защиту провели без диссертанта. Как и другие поэты и писатели, Матусовский уходит на фронт в качестве фронтового корреспондента. Летом 1941 г. он был ранен, но снова вернулся в строй. Фронтовые дороги вели его через Польшу в Германию. Однажды на боевые позиции к нему приехала жена Евгения Акимовна.
Nota bene: Что лично меня удивило в книге «Семейный альбом»? М. Матусовский уделил своей красавице-супруге лишь несколько строк! И это при том, что своей первой любви-девочке Аде из Луганска он не пожалел несколько страниц текста! Тем не менее Евгении он посвятил немало стихов. В чем же дело? Поэт был женат единожды, и надо полагать, счастливо. Думаю, в этом тоже сказалась скромность Михаила Львовича. Не хотел выносить на публику свои чувства. Так что тайну встречи и знакомства с Евгенией он «оставил за кулисами».
После войны наступил звездный час для Матусовского. Если до нее Михаил Львович не выбивался из общего ряда столич-ных поэтов, то теперь ситуация меняется. Славил Сталина в стихах? Что ж, было. А кто тогда не славил? Все славили. (Ну-ну, не все, возразит читатель, и будет прав. Только у тех, других, и дорога была другая, не усыпанная розами, а. крестная). В сборниках стихов Матусовского, изданных в 1930-1940-е годы, много строф о вожде, Так сказать, дань эпохе. В годы перестройки их стыдливо не переиздают. А тогда, как и для всех, Сталин для Матусовского - великан духа, великий, могучий правитель:
«... Пусть звучит
первомайская слава
Человеку в московском Кремле,
Кем сильна
и бессмертна держава,
Кто весну возродил на зелпе».
(«Весна мастеров». 1947 г.)
Времена меняются. Люди — нет. Кое-кто из современных луганских поэтов/поэтесс может похвалиться своими стихами в честь «вождей» уже нашего часа, благодаря которым тоже «солнце встает». Достаточно вспомнить опубликованную в 2005-м в «Ракурсе» оду Ефремову сочинения Татьяны Дейнегиной.
«Я песне отдал все сполна...»
«...В ней жизнь моя, моя забота.
Ведь людям песня
так нужна
Как птицам крылья
для полета».
Так в одном из стихотворений поэт-песенник М.Матусовский очертил значение песни лично для него и для своих читателей и слушателей. Михаил Львович плодотворно сотрудничал с разными композиторами: В. Баснером, В. Шаинским, А. Пахмутовой, Т.Хренниковым... Много
песен написал для кино. Это - настоящие шлягеры: «Старый клен», «На безымянной высоте», романс «Белой акации гроздья душистые», «С чего начинается Родина?» — всех не перечесть! Матусовский — автор текстов более чем к двумстам песням! Для детей он написал «Крейсер «Аврора» и «Вместе весело шагать».
Как же рождается песня? «Я не вправе говорить от всех поэтов, работающих в песенном жанре, но лично я предпочитаю способ в соответствии с древним изречением: «вначале было слово». Несколько раз я соглашался писать стихи на готовую музыку. Как правило, из этого ничего хорошего не получалось».
Какие же качества ценил Матусовский в песне? «Песня требует хрестоматийной простоты, соразмерности всех частей, органичности перехода запева в припев, полной естественности и непосредственности. В песне предпочтительнее даже некоторая наивность, нежели вычурная надуманность и тяжеловесность».
О судьбе песни мэтр рассуждает так: «Вообще пути песни загадочны и неисповедимы. Я бы мог назвать десятки песен, которые писал с полной отдачей сил, а их почему-то не поют». Поначалу так было и с песней «Вологда», написанной М.Матусовским и Б. Мокроусовым для спектакля Малого театра «Белые облака ». И только когда текст изменит В.Мулявин и исполнили «Песняры», она стала хитом.
Матусовский не забывает родной город. В 1975 г. он приезжает на встречу с одноклассниками: «Я снова шел привычной дорогой в школу, мимо ж/д переезда, где давным-давно бабы торговали баранками с маком и самодельными разноцветными конфетами». Каждый приезд мэтра освещает газета «Луганская правда». Так было и в 1946 г., так было и в 1987 г., когда Матусовский прибыл на празднование Дня Победы. Тогда ему сообщили радостную новость о присвоении звания «Почетный гражданин г. Ворошиловграда». Вот незаезженные нашими знатоками творчества поэта Матусовского строки о природе родного края: «Спят звезды на покатом небосводе, обозы спят, спят суслики в степи...» . Или: «Давно укрыли зверобой и мята становищ тех остывшую золу./ Здесь воин князя Игоря когда-то в траву случайно выронил стрелу» . А вот шутливый поэтический портрет дореволюционного хозяина паровозостроительного завода Г.Гартмана:
«Я помню Гартмана-отца
В полупальто коротком.
Квадрат багрового лица
С филейным подбородком».
А вот как иллюстрирует в одном из стихотворений М.Матусовский работу своего отца-фотографа:
«Отец снимал худых девиц,
В интимной позе
светских львиц,
И много плоских, как стена,
И улыбающихся лиц».
Удачными получились стихотворения М.Матусовского: «Украинский календарь», «В музее Даля в Луганске», «Опять я был на родине в Донбассе...»
Последние годы жизни М.Матусовский провел на даче в Подмосковье. Сейчас в Москве живут его внуки. Осталось и главное наследие - песни, которые на фоне современных уродливых кричалок-пищалок-однодневок выглядят прекрасными «жар-птицами» среди стаи бесцветных кур.
Маркевич А. Михаил Матусовский / А. Маркевич // Время Луганска. - 2007. - №7. - С. 18-19
По окончании строительного техникума в Луганске работал на заводе. В это же время начал печатать свои стихи в местных газетах и журналах. В 1939 году окончил (МИФЛИ). Слушал лекции Н. К. Гудзия и Г. Н. Поспелова , А. А. Аникста и А. А. Исбаха , В. Ф. Асмуса и Ю. М. Соколова . В том же, 1939 году он стал членом Союза писателей СССР .
После окончания МИФЛИ Матусовский продолжил обучение в аспирантуре по кафедре древнерусской литературы, где под научным руководством Н. К. Гудзия он подготовил кандидатскую диссертацию по теме «Очерки поэтического стиля древнерусских воинских повестей периода татарского нашествия на Русь». Однако на защиту диссертации, назначенную на 27 июня 1941 года, соискатель не явился: началась Великая Отечественная война , и он, получив удостоверение военного корреспондента , был уже на фронте. Профессор Гудзий настоял на том, чтобы защита прошла в отсутствие соискателя. Через несколько дней находившийся на фронте Матусовский получил телеграмму о присвоении ему степени кандидата филологических наук .
В годы Великой Отечественной войны Матусовский работал военным корреспондентом в газетах Западного, Северо-Западного, Второго Белорусского фронтов. Во фронтовых газетах систематически появлялись стихотворные фельетоны и частушки Матусовского. Первая его песня «Вернулся я на родину», созданная совместно с композитором М. Г. Фрадкиным , прозвучала сразу же после окончания войны .
Во время войны вышли сборники стихов: «Фронт» (1942), «Когда шумит Ильмень-озеро» (1944); в послевоенные годы - сборники и книги стихов и песен: «Слушая Москву» (1948), «Улица мира» (1951), «Всё, что мне дорого» (1957), «Стихи остаются в строю» (1958), «Подмосковные вечера» (1960), «Как поживаешь, Земля» (1963), «Не забывай» (1964), «Тень человека. Книга стихотворений о Хиросиме, о её борьбе и её страданиях, о её людях и её камнях» (1968), «Это было недавно, это было давно» (1970), «Суть: стихи и поэмы» (1979), «Избранные произведения в двух томах» (1982), «Семейный альбом» (1983) и многие другие.
Память
Памятник Матусовскому установлен в Луганске на Красной площади возле ЛГАКИ. Межрегиональным союзом писателей учреждена литературная премия им. Михаила Матусовского, предназначенная для русскоязычных поэтов.
|
Поэт М. Л. Матусовский изображен на первой почтовой марке ЛНР .
В честь поэта назван астероид главного пояса (2295) Матусовский , открытый 19 августа 1977 года советским астрономом Н. С. Черных в Крымской астрофизической обсерватории .
Награды и премии
- Государственная премия СССР в области литературы (1977) с формулировкой: «за стихи последних лет»;
- два ордена Отечественной войны I степени (5.6.1945; 6.4.1985);
- орден Красной Звезды (29.4.1942);
- медали.
Сочинения
Поэзия
Популярные песни на стихи М. Матусовского
- «А туман на луга ложится» (муз. В. Баснера) - исп. Эдуард Хиль
- «Ах, какие сегодня зарницы» (муз. В. Баснера) - исп. Эдуард Хиль
- «Баллада о солдате» (муз. В. Соловьёва-Седого) - исп. Сергей Захаров, Эдуард Хиль
- «Баллада о фронтовом кинооператоре» (муз. В. Баснера) - исп. Герман Орлов
- «Берёзовый сок» (муз. В. Баснера) - исп. Леонид Борткевич (ВИА «Песняры»)
- «Была судьба» (муз. В. Баснера) - исп. Галина Ковалёва, Эдуард Хиль, Любовь Исаева
- «В дни войны» (муз. А. Петрова) из к/ф «Батальоны просят огня » - исп. Николай Караченцов
- «В этот праздничный час» (муз. И. Дунаевского) - исп. Любовь Казарновская
- «Вернулся я на Родину» (муз. М. Фрадкина) - исп. Юрий Богатиков
- «Вечер вальса» (муз. И. Дунаевского) - исп. Георгий Виноградов
- «Вместе весело шагать» (муз. В. Шаинского) - исп. Большой Детский хор Гостелерадио п/у Виктора Попова
- «Вологда » (муз. Б. Мокроусова) - наиболее известна в исполнении Анатолия Кашепарова (ВИА «Песняры », 1976). Написана в 1956 году, первый исполнитель - Владимир Нечаев , позже передана авторами для спектакля «Белые облака» (Малый театр , , реж. Е. Р. Симонов , исполнитель - Михаил Новохижин )
- «Грузовичок - фронтовичок» (муз. В. Баснера) - исп. Лев Барашков
- «Дорожная песенка» (муз. В. Баснера) - исп. Эдуард Хиль
- «И только потому мы победим» (муз. В. Баснера) - исп. Иосиф Кобзон , Эдуард Хиль
- «Идёт влюблённый человек» (муз. О. Фельцмана) - исп. Георг Отс
- «Идёт рабочий класс» (муз. В. Баснера) - исп. Академический Большой хор Гостелерадио
- Из к/ф Испытание верности (муз. И. Дунаевского)
- «Как, скажи, тебя зовут» (1974) (муз. В. Баснера) - исп. Эдуард Хиль
- «Крейсер „Аврора“» (муз. В. Шаинского) из м/ф «Аврора» (реж. Р. Качанов) - исп. Большой Детский хор Гостелерадио п/у Виктора Попова
- «Крестики - нолики» (муз. В. Баснера) - исп. Таисия Калинченко и Эдуард Хиль
- «Летите, голуби, летите…» (муз. И. Дунаевского) - исп. Большой Детский хор Гостелерадио
- «Лодочка» (муз. Т. Хренникова) - исп. Валентина Толкунова
- «Махнём не глядя» (муз. В. Баснера) - исп. Виталий Копылов
- «Мне вспомнились снова» (муз. В. Баснера) - исп. Павел Кравецкий
- «Московские окна» (муз. Т. Хренникова) - исп. Иосиф Кобзон
- «Моя родимая земля» (муз. В. Баснера) - исп. Павел Кравецкий
- «Мы дети военной поры» (муз. В. Баснера) - исп. Детский хор Ленинградского Радио и ТВ
- «На безымянной высоте » (на музыку Вениамина Баснера) из к/ф «Тишина » (реж. В. Басов) - исп. Юрий Гуляев, Лев Барашков, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль.
- «Не ищите ландышей в месяце апреле» (муз. В. Баснера) - исп. Людмила Сенчина
- «Незабытая песня» (муз. М. Блантера) - исп. Юрий Гуляев, Алибек Днишев
- «Ночь за стеной» (муз. В. Баснера) из к/ф «Возвращение к жизни»
- «Ну почему ко мне ты равнодушна» (муз. В. Шаинского) из к/ф «И снова Анискин» - исп. Андрей Миронов
- «О „Шарике“ родном» (муз. С. Каца) - исп. Виктор Селиванов
- «Один на один» (муз. В. Баснера) из к/ф «3 % риска» - исп. Александр Хочинский
- «Песня о гудке» (муз. Э. Колмановского)
- «Песня о дружбе» или «Верные друзья» (муз. Т. Хренникова) из к/ф «Верные друзья » - исп. Александр Борисов , Василий Меркурьев и Борис Чирков
- «Песня парка»
- «Пилот не может не летать» (муз. В. Баснера) - исп. Эдуард Хиль
- «Пишите нам, подружки» (муз. И. Дунаевского) - исп. М. Киселёв
- «Пограничная застава» (муз. В. Баснера) - исп. Эдуард Хиль
- «Подмосковные вечера » (на музыку Василия Соловьёва-Седого) - исп. Владимир Трошин
- «Позывные» (муз. В. Шаинского) из к/ф «И снова Анискин» - исп. Иосиф Кобзон
- «Поле Куликово» (муз. Т. Хренникова) - исп. Иосиф Кобзон
- «Поручение» (муз. И. Дунаевского)
- «Прощайте, голуби» (муз. М. Фрадкина) - исп. В. Толкунова и группа БДХ Гостелерадио
- «Романс Лапина» или «Что так сердце растревожено» (муз. Т. Хренникова) из к/ф «Верные друзья» - исп. Александр Борисов
- «С чего начинается Родина » (муз. В. Баснера) из к/ф «Щит и меч » (реж. В. Басов) - исп. Марк Бернес
- «Сиреневый туман » (муз. Я. Сашина) - исп. Владимир Маркин
- «Скворцы прилетели» (муз. И. Дунаевского)
- «Солдат - всегда солдат» (муз. В. Соловьёва-Седого) - исп. Краснознамённый ансамбль им. Александрова
- «Старый клён» (муз. А. Пахмутовой) из к/ф «Девчата» - исп. Люсьена Овчинникова и Николай Погодин , Алла Абдалова и Лев Лещенко , Ирина Бржевская и Иосиф Кобзон
- «Та река, где ты родился» (муз. В. Баснера) - исп. Людмила Сенчина и Эдуард Хиль
- «Танго» или «Есть у тебя талант» (муз. В. Баснера) - исп. Андрей Миронов
- «Ты и я» (муз. В. Баснера) - исп. Валентина Толкунова и Леонид Серебренников
- «Хорошие девчата» (муз. А. Пахмутовой) из к/ф «Девчата»
- «Целую ночь соловей нам насвистывал» (муз. В. Баснера) из к/ф «Дни Турбиных» - исп. Людмила Сенчина
- «Чёрное море моё» («…Самое синее в мире, Чёрное море моё…») (муз. О. Фельцмана) - исп. Георг Отс
- «Школьный вальс» («Давно, друзья весёлые, простились мы со школою…») (муз. И. Дунаевского) - исп. В. Бунчиков, М. Пахоменко
- «Это было недавно» (муз. В. Баснер) - исп. Олег Анофриев
Напишите отзыв о статье "Матусовский, Михаил Львович"
Примечания
Литература
- Хозиева С. И. Русские писатели и поэты: Краткий биографический словарь. - М.: Рипол Классик, 2002. - 576 с. - ISBN 5-7905-1200-3 .
Ссылки
- Матусовский Михаил Львович - статья из Большой советской энциклопедии .
- на сайте
- Марина Волкова, Владислав Куликов .
Отрывок, характеризующий Матусовский, Михаил Львович
– Наши опять отступили. Под Смоленском уже, говорят, – отвечал Пьер.– Боже мой, боже мой! – сказал граф. – Где же манифест?
– Воззвание! Ах, да! – Пьер стал в карманах искать бумаг и не мог найти их. Продолжая охлопывать карманы, он поцеловал руку у вошедшей графини и беспокойно оглядывался, очевидно, ожидая Наташу, которая не пела больше, но и не приходила в гостиную.
– Ей богу, не знаю, куда я его дел, – сказал он.
– Ну уж, вечно растеряет все, – сказала графиня. Наташа вошла с размягченным, взволнованным лицом и села, молча глядя на Пьера. Как только она вошла в комнату, лицо Пьера, до этого пасмурное, просияло, и он, продолжая отыскивать бумаги, несколько раз взглядывал на нее.
– Ей богу, я съезжу, я дома забыл. Непременно…
– Ну, к обеду опоздаете.
– Ах, и кучер уехал.
Но Соня, пошедшая в переднюю искать бумаги, нашла их в шляпе Пьера, куда он их старательно заложил за подкладку. Пьер было хотел читать.
– Нет, после обеда, – сказал старый граф, видимо, в этом чтении предвидевший большое удовольствие.
За обедом, за которым пили шампанское за здоровье нового Георгиевского кавалера, Шиншин рассказывал городские новости о болезни старой грузинской княгини, о том, что Метивье исчез из Москвы, и о том, что к Растопчину привели какого то немца и объявили ему, что это шампиньон (так рассказывал сам граф Растопчин), и как граф Растопчин велел шампиньона отпустить, сказав народу, что это не шампиньон, а просто старый гриб немец.
– Хватают, хватают, – сказал граф, – я графине и то говорю, чтобы поменьше говорила по французски. Теперь не время.
– А слышали? – сказал Шиншин. – Князь Голицын русского учителя взял, по русски учится – il commence a devenir dangereux de parler francais dans les rues. [становится опасным говорить по французски на улицах.]
– Ну что ж, граф Петр Кирилыч, как ополченье то собирать будут, и вам придется на коня? – сказал старый граф, обращаясь к Пьеру.
Пьер был молчалив и задумчив во все время этого обеда. Он, как бы не понимая, посмотрел на графа при этом обращении.
– Да, да, на войну, – сказал он, – нет! Какой я воин! А впрочем, все так странно, так странно! Да я и сам не понимаю. Я не знаю, я так далек от военных вкусов, но в теперешние времена никто за себя отвечать не может.
После обеда граф уселся покойно в кресло и с серьезным лицом попросил Соню, славившуюся мастерством чтения, читать.
– «Первопрестольной столице нашей Москве.
Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любезное наше отечество», – старательно читала Соня своим тоненьким голоском. Граф, закрыв глаза, слушал, порывисто вздыхая в некоторых местах.
Наташа сидела вытянувшись, испытующе и прямо глядя то на отца, то на Пьера.
Пьер чувствовал на себе ее взгляд и старался не оглядываться. Графиня неодобрительно и сердито покачивала головой против каждого торжественного выражения манифеста. Она во всех этих словах видела только то, что опасности, угрожающие ее сыну, еще не скоро прекратятся. Шиншин, сложив рот в насмешливую улыбку, очевидно приготовился насмехаться над тем, что первое представится для насмешки: над чтением Сони, над тем, что скажет граф, даже над самым воззванием, ежели не представится лучше предлога.
Прочтя об опасностях, угрожающих России, о надеждах, возлагаемых государем на Москву, и в особенности на знаменитое дворянство, Соня с дрожанием голоса, происходившим преимущественно от внимания, с которым ее слушали, прочла последние слова: «Мы не умедлим сами стать посреди народа своего в сей столице и в других государства нашего местах для совещания и руководствования всеми нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными на поражение оного, везде, где только появится. Да обратится погибель, в которую он мнит низринуть нас, на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России!»
– Вот это так! – вскрикнул граф, открывая мокрые глаза и несколько раз прерываясь от сопенья, как будто к носу ему подносили склянку с крепкой уксусной солью. – Только скажи государь, мы всем пожертвуем и ничего не пожалеем.
Шиншин еще не успел сказать приготовленную им шутку на патриотизм графа, как Наташа вскочила с своего места и подбежала к отцу.
– Что за прелесть, этот папа! – проговорила она, целуя его, и она опять взглянула на Пьера с тем бессознательным кокетством, которое вернулось к ней вместе с ее оживлением.
– Вот так патриотка! – сказал Шиншин.
– Совсем не патриотка, а просто… – обиженно отвечала Наташа. – Вам все смешно, а это совсем не шутка…
– Какие шутки! – повторил граф. – Только скажи он слово, мы все пойдем… Мы не немцы какие нибудь…
– А заметили вы, – сказал Пьер, – что сказало: «для совещания».
– Ну уж там для чего бы ни было…
В это время Петя, на которого никто не обращал внимания, подошел к отцу и, весь красный, ломающимся, то грубым, то тонким голосом, сказал:
– Ну теперь, папенька, я решительно скажу – и маменька тоже, как хотите, – я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу… вот и всё…
Графиня с ужасом подняла глаза к небу, всплеснула руками и сердито обратилась к мужу.
– Вот и договорился! – сказала она.
Но граф в ту же минуту оправился от волнения.
– Ну, ну, – сказал он. – Вот воин еще! Глупости то оставь: учиться надо.
– Это не глупости, папенька. Оболенский Федя моложе меня и тоже идет, а главное, все равно я не могу ничему учиться теперь, когда… – Петя остановился, покраснел до поту и проговорил таки: – когда отечество в опасности.
– Полно, полно, глупости…
– Да ведь вы сами сказали, что всем пожертвуем.
– Петя, я тебе говорю, замолчи, – крикнул граф, оглядываясь на жену, которая, побледнев, смотрела остановившимися глазами на меньшого сына.
– А я вам говорю. Вот и Петр Кириллович скажет…
– Я тебе говорю – вздор, еще молоко не обсохло, а в военную службу хочет! Ну, ну, я тебе говорю, – и граф, взяв с собой бумаги, вероятно, чтобы еще раз прочесть в кабинете перед отдыхом, пошел из комнаты.
– Петр Кириллович, что ж, пойдем покурить…
Пьер находился в смущении и нерешительности. Непривычно блестящие и оживленные глаза Наташи беспрестанно, больше чем ласково обращавшиеся на него, привели его в это состояние.
– Нет, я, кажется, домой поеду…
– Как домой, да вы вечер у нас хотели… И то редко стали бывать. А эта моя… – сказал добродушно граф, указывая на Наташу, – только при вас и весела…
– Да, я забыл… Мне непременно надо домой… Дела… – поспешно сказал Пьер.
– Ну так до свидания, – сказал граф, совсем уходя из комнаты.
– Отчего вы уезжаете? Отчего вы расстроены? Отчего?.. – спросила Пьера Наташа, вызывающе глядя ему в глаза.
«Оттого, что я тебя люблю! – хотел он сказать, но он не сказал этого, до слез покраснел и опустил глаза.
– Оттого, что мне лучше реже бывать у вас… Оттого… нет, просто у меня дела.
– Отчего? нет, скажите, – решительно начала было Наташа и вдруг замолчала. Они оба испуганно и смущенно смотрели друг на друга. Он попытался усмехнуться, но не мог: улыбка его выразила страдание, и он молча поцеловал ее руку и вышел.
Пьер решил сам с собою не бывать больше у Ростовых.
Петя, после полученного им решительного отказа, ушел в свою комнату и там, запершись от всех, горько плакал. Все сделали, как будто ничего не заметили, когда он к чаю пришел молчаливый и мрачный, с заплаканными глазами.
На другой день приехал государь. Несколько человек дворовых Ростовых отпросились пойти поглядеть царя. В это утро Петя долго одевался, причесывался и устроивал воротнички так, как у больших. Он хмурился перед зеркалом, делал жесты, пожимал плечами и, наконец, никому не сказавши, надел фуражку и вышел из дома с заднего крыльца, стараясь не быть замеченным. Петя решился идти прямо к тому месту, где был государь, и прямо объяснить какому нибудь камергеру (Пете казалось, что государя всегда окружают камергеры), что он, граф Ростов, несмотря на свою молодость, желает служить отечеству, что молодость не может быть препятствием для преданности и что он готов… Петя, в то время как он собирался, приготовил много прекрасных слов, которые он скажет камергеру.
Петя рассчитывал на успех своего представления государю именно потому, что он ребенок (Петя думал даже, как все удивятся его молодости), а вместе с тем в устройстве своих воротничков, в прическе и в степенной медлительной походке он хотел представить из себя старого человека. Но чем дальше он шел, чем больше он развлекался все прибывающим и прибывающим у Кремля народом, тем больше он забывал соблюдение степенности и медлительности, свойственных взрослым людям. Подходя к Кремлю, он уже стал заботиться о том, чтобы его не затолкали, и решительно, с угрожающим видом выставил по бокам локти. Но в Троицких воротах, несмотря на всю его решительность, люди, которые, вероятно, не знали, с какой патриотической целью он шел в Кремль, так прижали его к стене, что он должен был покориться и остановиться, пока в ворота с гудящим под сводами звуком проезжали экипажи. Около Пети стояла баба с лакеем, два купца и отставной солдат. Постояв несколько времени в воротах, Петя, не дождавшись того, чтобы все экипажи проехали, прежде других хотел тронуться дальше и начал решительно работать локтями; но баба, стоявшая против него, на которую он первую направил свои локти, сердито крикнула на него:
– Что, барчук, толкаешься, видишь – все стоят. Что ж лезть то!
– Так и все полезут, – сказал лакей и, тоже начав работать локтями, затискал Петю в вонючий угол ворот.
Петя отер руками пот, покрывавший его лицо, и поправил размочившиеся от пота воротнички, которые он так хорошо, как у больших, устроил дома.
Петя чувствовал, что он имеет непрезентабельный вид, и боялся, что ежели таким он представится камергерам, то его не допустят до государя. Но оправиться и перейти в другое место не было никакой возможности от тесноты. Один из проезжавших генералов был знакомый Ростовых. Петя хотел просить его помощи, но счел, что это было бы противно мужеству. Когда все экипажи проехали, толпа хлынула и вынесла и Петю на площадь, которая была вся занята народом. Не только по площади, но на откосах, на крышах, везде был народ. Только что Петя очутился на площади, он явственно услыхал наполнявшие весь Кремль звуки колоколов и радостного народного говора.
Одно время на площади было просторнее, но вдруг все головы открылись, все бросилось еще куда то вперед. Петю сдавили так, что он не мог дышать, и все закричало: «Ура! урра! ура!Петя поднимался на цыпочки, толкался, щипался, но ничего не мог видеть, кроме народа вокруг себя.
На всех лицах было одно общее выражение умиления и восторга. Одна купчиха, стоявшая подле Пети, рыдала, и слезы текли у нее из глаз.
– Отец, ангел, батюшка! – приговаривала она, отирая пальцем слезы.
– Ура! – кричали со всех сторон. С минуту толпа простояла на одном месте; но потом опять бросилась вперед.
Петя, сам себя не помня, стиснув зубы и зверски выкатив глаза, бросился вперед, работая локтями и крича «ура!», как будто он готов был и себя и всех убить в эту минуту, но с боков его лезли точно такие же зверские лица с такими же криками «ура!».
«Так вот что такое государь! – думал Петя. – Нет, нельзя мне самому подать ему прошение, это слишком смело!Несмотря на то, он все так же отчаянно пробивался вперед, и из за спин передних ему мелькнуло пустое пространство с устланным красным сукном ходом; но в это время толпа заколебалась назад (спереди полицейские отталкивали надвинувшихся слишком близко к шествию; государь проходил из дворца в Успенский собор), и Петя неожиданно получил в бок такой удар по ребрам и так был придавлен, что вдруг в глазах его все помутилось и он потерял сознание. Когда он пришел в себя, какое то духовное лицо, с пучком седевших волос назади, в потертой синей рясе, вероятно, дьячок, одной рукой держал его под мышку, другой охранял от напиравшей толпы.
– Барчонка задавили! – говорил дьячок. – Что ж так!.. легче… задавили, задавили!
Государь прошел в Успенский собор. Толпа опять разровнялась, и дьячок вывел Петю, бледного и не дышащего, к царь пушке. Несколько лиц пожалели Петю, и вдруг вся толпа обратилась к нему, и уже вокруг него произошла давка. Те, которые стояли ближе, услуживали ему, расстегивали его сюртучок, усаживали на возвышение пушки и укоряли кого то, – тех, кто раздавил его.
– Этак до смерти раздавить можно. Что же это! Душегубство делать! Вишь, сердечный, как скатерть белый стал, – говорили голоса.
Петя скоро опомнился, краска вернулась ему в лицо, боль прошла, и за эту временную неприятность он получил место на пушке, с которой он надеялся увидать долженствующего пройти назад государя. Петя уже не думал теперь о подаче прошения. Уже только ему бы увидать его – и то он бы считал себя счастливым!
Во время службы в Успенском соборе – соединенного молебствия по случаю приезда государя и благодарственной молитвы за заключение мира с турками – толпа пораспространилась; появились покрикивающие продавцы квасу, пряников, мака, до которого был особенно охотник Петя, и послышались обыкновенные разговоры. Одна купчиха показывала свою разорванную шаль и сообщала, как дорого она была куплена; другая говорила, что нынче все шелковые материи дороги стали. Дьячок, спаситель Пети, разговаривал с чиновником о том, кто и кто служит нынче с преосвященным. Дьячок несколько раз повторял слово соборне, которого не понимал Петя. Два молодые мещанина шутили с дворовыми девушками, грызущими орехи. Все эти разговоры, в особенности шуточки с девушками, для Пети в его возрасте имевшие особенную привлекательность, все эти разговоры теперь не занимали Петю; ou сидел на своем возвышении пушки, все так же волнуясь при мысли о государе и о своей любви к нему. Совпадение чувства боли и страха, когда его сдавили, с чувством восторга еще более усилило в нем сознание важности этой минуты.
Вдруг с набережной послышались пушечные выстрелы (это стреляли в ознаменование мира с турками), и толпа стремительно бросилась к набережной – смотреть, как стреляют. Петя тоже хотел бежать туда, но дьячок, взявший под свое покровительство барчонка, не пустил его. Еще продолжались выстрелы, когда из Успенского собора выбежали офицеры, генералы, камергеры, потом уже не так поспешно вышли еще другие, опять снялись шапки с голов, и те, которые убежали смотреть пушки, бежали назад. Наконец вышли еще четверо мужчин в мундирах и лентах из дверей собора. «Ура! Ура! – опять закричала толпа.