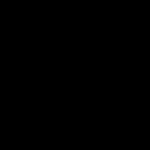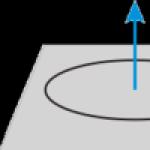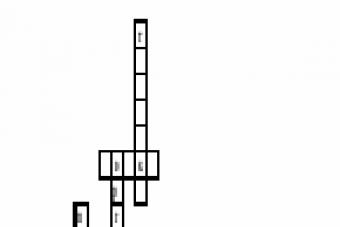Двадцать лет ждал я напрасно; наконец судьба привела меня в те места, где тридцать три года тому назад так весело проходило мое детство и где я нашел теперь одни могилы. Всякий из нас нес утраты, всякий поймет мои чувства. Здесь же получены были мною нумера журнала с ученическими тетрадями Лермонтова и объявление, угрожавшее выходом в свет трех томов его сочинений, куда войдут тетради и значительное число его детских стихотворений. Праведный боже! Зачем же выпускать в свет столько плохих стихов, как будто их и без того мало? Под влиянием этих чувств я преодолел свою нерешительность и взялся за перо. Не беллетристическое произведение предлагаю публике, а правдивое описание того, что происходило в жизни человека, интересующего настоящее время.
Михаил Юрьевич Лермонтов родился 3 октября 1814 года в имении бабушки своей, Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, рожденной Столыпиной, в селе Тарханах, Чембарского уезда, Пензенской губернии.
Будучи моложе его четырьмя годами, не могу ничего положительного сказать о его первом детстве; знаю только, что он остался после матери нескольких месяцев на руках у бабушки, а отец его, Юрий Петрович, жил в своей деревне Ефремовского уезда и приезжал не часто навещать сына, которого бабушка любила без памяти и взяла на свое попечение, назначая ему принадлежащее ей имение (довольно порядочное, по тогдашнему счету шестьсот душ), так как у ней других детей не было. Слыхал также, что он был с детства очень слаб здоровьем, почему бабушка возила его раза три на Кавказ к минеральным водам. Сам же начинаю его хорошо помнить с осени 1825 года.
Покойная мать моя была родная и любимая племянница Елизаветы Алексеевны, которая и уговаривала ее переехать с Кавказа, где мы жили, в Пензенскую губернию, и помогла купить имение в трех верстах от своего, а меня, из дружбы к ней, взяла к себе на воспитание вместе с Мишелем, как мы все звали Михаила Юрьевича.
Таким образом, все мы вместе приехали осенью 1825 года из Пятигорска в Тарханы, и с этого времени мне живо помнится смуглый, с черными блестящими глазками Мишель, в зеленой курточке и с клоком белокурых волос надо лбом, резко отличавшихся от прочих, черных как смоль. Учителями были M-r Capet, высокий и худощавый француз с горбатым носом, всегдашний наш спутник, и бежавший из Турции в Россию грек; но греческий язык оказался Мишелю не по вкусу, уроки его были отложены на неопределенное время, а кефалонец занялся выделкой шкур палых собак и принялся учить этому искусству крестьян; он, бедный, давно уже умер, но промышленность, созданная им, развилась и принесла плоды великолепные: много тарханцев от нее разбогатело, и поныне чуть ли не половина села продолжает скорняжничать.
Помнится мне еще, как бы сквозь сон, лицо доброй старушки немки, Кристины Осиповны, няни Мишеля, и домашний доктор Левис, по приказанию которого нас кормили весной по утрам черным хлебом с маслом, посыпанным крессом, и не давали мяса, хотя Мишель, как мне всегда казалось, был совсем здоров, и в пятнадцать лет, которые мы провели вместе, я не помню его серьезно больным ни разу.
Жил с нами сосед из Пачелмы (соседняя деревня) Николай Гаврилович Давыдов, гостили довольно долго дальние родственники бабушки, два брата Юрьевы, двое князей Максютовых, часто наезжали и близкие родные с детьми и внучатами, кроме того, большое соседство, словом, дом был всегда битком набит. У бабушки были три сада, большой пруд перед домом, а за прудом роща; летом простору вдоволь. Зимой немного теснее, зато на пруду мы разбивались на два стана и перекидывались снежными комьями; на плотине с сердечным замиранием смотрели, как православный люд, стена на стену (тогда еще не было запрету), сходился на кулачки, и я помню, как раз расплакался Мишель, когда Василий-садовник выбрался из свалки с губой, рассеченной до крови. Великим постом Мишель был мастер делать из талого снегу человеческие фигуры в колоссальном виде; вообще он был счастливо одарен способностями к искусствам; уже тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из крашеного воску целые картины; охоту за зайцем с борзыми, которую раз всего нам пришлось видеть, вылепил очень удачно, также переход через Граник и сражение при Арбеллах, со слонами, колесницами, украшенными стеклярусом, и косами из фольги. Проявления же поэтического таланта в нем вовсе не было заметно в то время, все сочинения по заказу Capet он писал прозой, и нисколько не лучше своих товарищей.
Когда собирались соседки, устраивались танцы и раза два был домашний спектакль; бабушка сама была очень печальна, ходила всегда в черном платье и белом старинном чепчике без лент, но была ласкова и добра, и любила, чтобы дети играли и веселились, и нам было у нее очень весело.
Так прожили мы два года. В 1827 году она поехала с Мишелем в Москву, для его воспитания, а через год и меня привезли к ним. В Мишеле нашел я большую перемену, он был уже не дитя, ему минуло четырнадцать лет; он учился прилежно. M-r Gindrot, гувернер, почтенный и добрый старик, был, однако, строг и взыскателен и держал нас в руках; к нам ходили разные другие учители, как водится. Тут я в первый раз увидел русские стихи у Мишеля: Ломоносова, Державина, Дмитриева, Озерова, Батюшкова, Крылова, Жуковского, Козлова и Пушкина, тогда же Мишель прочел мне своего сочинения стансы К; меня ужасно интриговало, что значит слово стансы и зачем три звездочки? Однако ж промолчал, как будто понимаю. Вскоре была написана первая поэма «Индианка» и начал издаваться рукописный журнал «Утренняя заря», на манер «Наблюдателя» или «Телеграфа», как следует, с стихотворениями и изящною словесностью, под редакцией Николая Гавриловича; журнала этого вышло несколько нумеров, по счастию, перед отъездом в Петербург, все это было сожжено, и многое другое, при разборе старых бумаг.
Через год Мишель поступил полупансионером в Университетский благородный пансион, и мы переехали с Поварской на Малую Молчановку в дом Чернова. Пансионская жизнь Мишеля была мне мало известна, знаю только, что там с ним не было никаких историй; изо всех служащих при пансионе видел только одного надзирателя, Алексея Зиновьевича Зиновьева, бывавшего часто у бабушки, а сам в пансионе был один только раз, на выпускном акте, где Мишель декламировал стихи Жуковского: «Безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей». Впрочем, он не был мастер декламировать и даже впоследствии читал свои прекрасные стихи довольно плохо.
В соседстве с нами жило семейство Лопухиных, старик отец, три дочери-девицы и сын; они были с нами как родные и очень дружны с Мишелем, который редкий день там не бывал. Были также у нас родственницы со взрослыми дочерьми, часто навещавшие нас, так что первое общество, в которое попал Мишель, было преимущественно женское, и оно непременно должно было иметь влияние на его впечатлительную натуру.
Вскоре потом умер M-r Gindrot, на место его поступил M-r Winson, англичанин, и под его руководством Мишель начал учиться по-английски. Сколько мне помнится, это случилось в 1829 году, впрочем, не могу с достоверностью приводить точные цифры; это так давно, более тридцати лет, я был ребенком, никогда никаких происшествий не записывал и не мог думать, чтобы мне когда-нибудь пришлось доставлять материалы для биографии Лермонтова. В одном могу ручаться, это в верности как самих фактов, так и последовательности их.
Мишель начал учиться английскому языку по Байрону и через несколько месяцев стал свободно понимать его; читал Мура и поэтические произведения Вальтера Скотта (кроме этих трех, других поэтов Англии я у него никогда не видал), но свободно объясняться по-английски никогда не мог, французским же и немецким языком владел как собственным. Изучение английского языка замечательно тем, что с этого времени он начал передразнивать Байрона.
Вообще большая часть произведений Лермонтова этой эпохи, то есть с 1829 по 1833 год, носит отпечаток скептицизма, мрачности и безнадежности, но в действительности чувства эти были далеки от него. Он был характера скорее веселого, любил общество, особенно женское, в котором почти вырос и которому нравился живостию своего остроумия и склонностью к эпиграмме; часто посещал театр, балы, маскарады; в жизни не знал никаких лишений, ни неудач: бабушка в нем души не чаяла и никогда ни в чем ему не отказывала; родные и короткие знакомые носили его, так сказать, на руках; особенно чувствительных утрат он не терпел; откуда же такая мрачность, такая безнадежность? Не была ли это скорее драпировка, чтобы казаться интереснее, так как байронизм и разочарование были в то время в сильном ходу, или маска, чтобы морочить обворожительных московских львиц? Маленькая слабость, очень извинительная в таком молодом человеке. Тактика эта, как кажется, ему и удавалась, если судить по воспоминаниям. Одно из них случилось мне прочесть в «Русском вестнике» года три тому назад. Автор этих «Воспоминаний», называвшийся Катенькой, как видно из его рассказа, у нас же и в то время известный под именем Miss Black-eyes Сушкова, впоследствии Хвостова, вероятно, и не подозревает, что всем происшествиям был свидетель, на которого, как на ребенка, никто не обращал внимания, но который много замечал, и понимал, и помнит, между прочим, и то, что никогда ни Alexandrine W., ни Catherine S. в нашем соседстве, в Москве, не жили; что у бабушки не было брата, служившего с Грибоедовым, и тот, о ком идет речь, был военным губернатором (Николай Алексеевич Столыпин) в Севастополе, где в 1830 году во время возмущения и убит; что, наконец, Мишель не был косолап и глаза его были вовсе не красные, а скорее прекрасные.
Будучи студентом, он был страстно влюблен, но не в мисс Блэк-айз и даже не в кузину ее (да не прогневается на нас за это известие тень знаменитой поэтессы), а в молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле восхитительную В. А. Лопухину, это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку; ей было лет пятнадцать - шестнадцать; мы же были дети и сильно дразнили ее; у ней на лбу чернелось маленькое родимое пятнышко, и мы всегда приставали к ней, повторяя: «У Вареньки родинка, Варенька уродинка», но она, добрейшее создание, никогда не сердилась. Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения, но оно не могло набросить (и не набросило) мрачной тени на его существование, напротив: в начале своем оно возбудило взаимность, впоследствии, в Петербурге, в гвардейской школе, временно заглушено было новою обстановкой и шумною жизнью юнкеров тогдашней школы, по вступлении в свет новыми успехами в обществе и литературе; но мгновенно и сильно пробудилось оно при неожиданном известии о замужестве любимой женщины; в то время о байронизме не было уже и помину.
В домашней жизни своей Лермонтов был почти всегда весел, ровного характера, занимался часто музыкой, а больше рисованием, преимущественно в батальном жанре, также играли мы часто в шахматы и в военную игру, для которой у меня всегда было в готовности несколько планов. Все это неоспоримо убеждает меня в мысли, что байронизм был не больше как драпировка; что никаких мрачных мучений, ни жертв, ни измен, ни ядов лобзанья в действительности не было; что все стихотворения Лермонтова, относящиеся ко времени его пребывания в Москве, только детские шалости, ничего не объясняют и не выражают; почему и всякое суждение о характере и состоянии души поэта, на них основанное, приведет к неверному заключению, к тому же, кроме двух или трех, они не выдерживают снисходительнейшей критики, никогда автором их не назначались к печати, а сохранились от auto da-fé случайно, не прибавляя ничего к литературной славе Лермонтова, напротив, могут только навести скуку на читателя, и всем, кому дорога память покойного поэта, надо очень, очень жалеть, что творения эти появились в печати.
По выпуске из пансиона Мишель поступил в Московский университет, кажется, в 1831 году. К этому времени относится начало его поэмы «Демон», которую так много и долго он впоследствии переделывал; в первоначальном виде ее действие происходило в Испании и героиней была монахиня; также большая часть его произведений с байроническим направлением и очень много мелких, написанных по разным случаям, так как он, с поступлением в университет, стал посещать московский grand-monde. Г. Дудышкин, в статье своей «Ученические тетради Лермонтова», приводит некоторые из этих стихотворений, недоумевая, к чему их отнести; мне известно, что они были написаны по случаю одного маскарада в Благородном собрании, куда Лермонтов явился в костюме астролога, с огромной книгой судеб под мышкой, в этой книге должность кабалистических знаков исправляли китайские буквы, вырезанные мною из черной бумаги, срисованные в колоссальном виде с чайного ящика и вклеенные на каждой странице; под буквами вписаны были приведенные г. Дудышкиным стихи, назначенные разным знакомым, которых было вероятие встретить в маскараде, где это могло быть и кстати и очень мило, но какой смысл могут иметь эти очень слабые стишки в собрании сочинений поэта?
Тот же писатель и в той же статье предполагает, что Miss Alexandrine - лицо, играющее важную роль в эти годы жизни Лермонтова. Это отчасти справедливо, только не в том смысле, какой, кажется, желает намекнуть автор. Miss Alexandrine, то есть Александра Михайловна Верещагина, кузина его, принимала в нем большое участие, она отлично умела пользоваться немного саркастическим направлением ума своего и иронией, чтобы овладеть этой беспокойною натурой и направлять ее, шутя и смеясь, к прекрасному и благородному; все письма Александры Михайловны к Лермонтову доказывают ее дружбу к нему <...>. Между тем, как о девушке, страстно и долго им любимой, во всем собрании трудно найти малейший намек.
В Москве же Лермонтовым были написаны поэмы: «Литвинка», «Беглец», «Измаил-Бей», «Два брата», «Хаджи Абрек», «Боярин Орша» и очень слабое драматическое произведение с немецким заглавием «Menschen und Leidenschaften». Не понимаю, каким образом оно оказалось налицо; я был уверен, что мы сожгли эту трагедию вместе с другими плохими стихами, которых была целая куча.
Развлекаемый светскими удовольствиями, Лермонтов, однако же, занимался лекциями, но не долго пробыл в университете; вследствие какой-то истории с одним из профессоров, в которую он случайно и против воли был замешан, ему надо было оставить Московский университет, и в конце 1832 года он отправился с бабушкой в Петербург, чтобы поступить в тамошний, но вместо университета он поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в лейб-гвардии Гусарский полк. Через год, то есть в начале 1834, я тоже прибыл в Петербург для поступления в Артиллерийское училище и опять поселился у бабушки. В Мишеле я нашел опять большую перемену. Он сформировался физически; был мал ростом, но стал шире в плечах и плотнее, лицом по-прежнему смугл и нехорош собой; но у него был умный взгляд, хорошо очерченные губы, черные и мягкие волосы, очень красивые и нежные руки; ноги кривые (правую, ниже колена, он переломил в школе, в манеже, и ее дурно срастили).
Я привез ему поклон от Вареньки. В его отсутствие мы с ней часто о нем говорили; он нам обоим, хотя не одинаково, но равно был дорог. При прощанье, протягивая руку, с влажными глазами, но с улыбкой, она сказала мне:
Поклонись ему от меня; скажи, что я покойна, довольна, даже счастлива.
Мне очень было досадно на него, что он выслушал меня как будто хладнокровно и не стал о ней расспрашивать; я упрекнул его в этом, он улыбнулся и отвечал:
Ты еще ребенок, ничего не понимаешь!
А ты хоть и много понимаешь, да не сто́ишь ее мизинца! - возразил я, рассердившись не на шутку.
Это была первая и единственная наша ссора; но мы скоро помирились.
Школа была тогда на том месте у Синего моста, где теперь дворец ее высочества Марии Николаевны. Бабушка наняла квартиру в нескольких шагах от школы, на Мойке же, в доме Ланскова, и я почти каждый день ходил к Мишелю с контрабандой, то есть с разными pâtés froids, pâtés de Strasbourg, конфетами и прочим, и таким образом имел случай видеть и знать многих из его товарищей, между которыми был приятель его Вонляр-Лярский, впоследствии известный беллетрист, и два брата Мартыновы, из коих меньшой, красивый и статный молодой человек, получил такую печальную (по крайней мере, для нас) известность. <...>
Нравственно Мишель в школе переменился не менее как и физически, следы домашнего воспитания и женского общества исчезли; в то время в школе царствовал дух какого-то разгула, кутежа, бамбошерства; по счастию, Мишель поступил туда не ранее девятнадцати лет и пробыл там не более двух; по выпуске в офицеры все это пропало, как с гуся вода. Faut que jeunesse jette sa gourme, говорят французы.
Способности свои к рисованию и поэтический талант он обратил на карикатуры, эпиграммы и другие неудобные к печати произведения, помещавшиеся в издаваемом в школе рукописном иллюстрированном журнале, некоторые из них ходили по рукам отдельными выпусками. Для образчика могу привести несколько стихов из знаменитой в свое время и в своем месте поэмы «Уланша»:
Идет наш шумный эскадрон
Гремящей пестрою толпою,
Повес усталых клонит сон,
Уж поздно, темной синевою
Покрылось небо, день угас,
Повесы ропщут...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но вот Ижорка, слава богу!
Пора раскланяться с конем.
Как должно вышел на дорогу
Улан с завернутым значком;
Он по квартирам важно, чинно
Повел начальников с собой,
Хотя, признаться, запах винный
Изобличал его порой.
Но без вина что жизнь улана?
Его душа на дне стакана,
И кто два раза в день не пьян,
Тот, извините, не улан!
Сказать вам имя квартирьера?
То был Лафа, буян лихой,
С чьей молодецкой головой
Ни доппель-кюмель, ни мадера,
Ни даже шумное аи
Ни разу сладить не могли.
Его коричневая кожа
Сияла в множестве угрях,
Ну, словом, все, походка, рожа
На сердце наводило страх.
Задвинув кивер на затылок,
Идет он, все гремит на нем,
Как дюжина пустых бутылок
Толкаясь в ящике большом.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лафа угрюмо в избу входит,
Шинель, скользя, валится с плеч,
Кругом он дико взоры водит
И мнит, что видит сотни свеч...
Пред ним меж тем одна лучина,
Дымясь, треща, горит она,
Но что за дивная картина
Ее лучом озарена!
Сквозь дым волшебный, дым табачный,
Мелькают лица юнкеров.
Их рожи красны, взоры страшны,
Кто в сбруе весь, кто без ш <танов>
Пируют! - В их кругу туманном
Дубовый стол и ковш на нем,
И пунш в ушате деревянном
Пылает синим огоньком... и т. д.
Домой он приходил только по праздникам и воскресеньям и ровно ничего не писал. В школе он носил прозванье Маёшки, от М-г Mayeux, горбатого и остроумного героя давно забытого шутовского французского романа.
Два злополучные года пребывания в школе прошли скоро, и в начале 1835 его произвели в офицеры, в лейб-гусарский полк, я же поступил в Артиллерийское училище и, в свою очередь, стал ходить домой только по воскресеньям и праздникам.
С нами жил в то время дальний родственник и товарищ Мишеля по школе, Николай Дмитриевич Юрьев, который после тщетных стараний уговорить Мишеля печатать свои стихи передал, тихонько от него, поэму «Хаджи Абрек» Сенковскому, и она, к нашему немалому удивлению, в одно прекрасное утро появилась напечатанною в «Библиотеке для чтения». Лермонтов был взбешен, по счастью, поэму никто не разбранил, напротив, она имела некоторый успех, и он стал продолжать писать, но все еще не печатать.
По производстве его в офицеры бабушка сказала, что Мише нужны деньги, и поехала в Тарханы (это была их первая разлука). И действительно, Мише нужны были деньги; я редко встречал человека беспечнее его относительно материальной жизни, кассиром был его Андрей, действовавший совершенно бесконтрольно. Когда впоследствии он стал печатать свои сочинения, то я часто говорил ему: «Зачем не берешь ты ничего за свои стихи. Пушкин был не беднее тебя, однако платили же ему книгопродавцы по золотому за каждый стих», но он, смеясь, отвечал мне словами Гете:
Das Lied, das aus der Kehie dringt
Ist Lohn, der reichlich lohnet .
Он жил постоянно в Петербурге, а в Царское Село, где стояли гусары, езжал на ученья и дежурства. В том же полку служил родственник его Алексей Аркадьевич Столыпин, известный в школе, а потом и в свете под именем Мунго. Раз они вместе отправились в сентиментальное путешествие из Царского в Петергоф, которое Лермонтов описал в стихах:
Садится солнце за горой,
Туман дымится над болотом.
И вот, дорогой столбовой,
Летят, склонившись над лукой,
Два всадника, большим налетом... и т. д..
В это время, то есть до 1837 года, Лермонтов написал «Казначейшу», «Песню о царе Иоанне и купце Калашникове», начал роман в прозе без заглавия и драму в прозе «Два брата», переделал «Демона», набросал несколько сцен драмы «Арбенин» (впоследствии названной «Маскарад») и несколько мелких стихотворений, все это читалось дома, между короткими. В 1836 году бабушка, соскучившись без Миши, вернулась в Петербург. Тогда же жил с нами сын старинной приятельницы ее, С. А. Раевский. Он служил в военном министерстве, учился в университете, получил хорошее образование и имел знакомство в литературном кругу.
В это же время я имел случай убедиться, что первая страсть Мишеля не исчезла. Мы играли в шахматы, человек подал письмо; Мишель начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался и хотел спросить, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: «Вот новость - прочти», и вышел из комнаты. Это было известие о предстоящем замужестве В. А. Лопухиной.
Через Раевского Мишель познакомился с А.А. Краевским, которому отдавал впоследствии свои стихи для помещения в «Отечественных записках». Раевский имел верный критический взгляд, его замечания и советы были не без пользы для Мишеля, который, однако же, все еще не хотел печатать свои произведения, и имя его оставалось неизвестно большинству публики, когда в январе 1837 года мы все были внезапно поражены слухом о смерти Пушкина. Современники помнят, какое потрясение известие это произвело в Петербурге. Лермонтов не был лично знаком с Пушкиным, но мог и умел ценить его. Под свежим еще влиянием истинного горя и негодования, возбужденного в нем этим святотатственным убийством, он, в один присест, написал несколько строф, разнесшихся в два дня по всему городу. С тех пор всем, кому дорого русское слово, стало известно имя Лермонтова.
Стихи эти были написаны с эпиграфом из неизданной трагедии г. Жандра «Венцеслав»:
Отмщенья, государь! Отмщенья!
Паду к ногам твоим,
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.
Не привожу самих стихов, так как они уже напечатаны вполне. <...>
Нетрудно представить себе, какое впечатление строфы «На смерть Пушкина» произвели в публике, но они имели и другое действие. Лермонтова посадили под арест в одну из комнат верхнего этажа здания Главного штаба, откуда он отправился на Кавказ прапорщиком в Нижегородский драгунский полк. Раевский попался тоже под сюркуп, его с гауптвахты, что на Сенной, перевели на службу в Петрозаводск; на меня же полковник Кривопишин, производивший у нас домашний обыск, не удостоил обратить, по счастию, никакого внимания, и как я, так и тщательно списанный экземпляр подвергнувшихся гонению стихов остались невредимы.
Под арестом к Мишелю пускали только его камердинера, приносившего обед; Мишель велел завертывать хлеб в серую бумагу и на этих клочках с помощью вина, печной сажи и спички написал несколько пьес, а именно: «Когда волнуется желтеющая нива»; «Я, матерь божия, ныне с молитвою»; «Кто б ни был ты, печальный мой сосед», и переделал старую пьесу «Отворите мне темницу», прибавив к ней последнюю строфу «Но окно тюрьмы высоко».
Старушка бабушка была чрезвычайно поражена этим происшествием, но осталась в Петербурге, с надеждой выхлопотать внуку помилование, в чем через родных, а в особенности через Л. В. Дубельта и успела; менее чем через год Мишеля возвратили и перевели прежде в Гродненский, а вскоре, по просьбе бабушки же, опять в лейб-гусарский полк. <...>
Незадолго до смерти Пушкина, по случаю политической тревоги на Западе, Лермонтов написал пьесу вроде известной «Клеветникам России», но, находясь некоторым образом в опале, никогда не хотел впоследствии напечатать ее, по очень понятному чувству. Так как пьеса эта публике совершенно неизвестна (если не помещена в последнем издании), то привожу и ее здесь:
Опять народные витии
За дело падшее Литвы
На славу гордую России
Опять, шумя, восстали вы!.. и т.д..
По возвращении в Петербург Лермонтов стал чаще ездить в свет, но более дружеский прием находил в доме у Карамзиных, у г-жи Смирновой и князя Одоевского. Литературная деятельность его увеличилась. Он писал много мелких лирических стихотворений, переделал в третий раз поэму «Демон», окончил драму «Маскарад», переделал давно написанную им поэму «Мцыри» и еще несколько пьес, которые теперь не упомню; начал роман «Герой нашего времени». Словом, это была самая деятельная эпоха его жизни в литературном отношении. С 1839 года стал он печатать свои произведения в «Отечественных записках»; у него не было чрезмерного авторского самолюбия; он не доверял себе, слушал охотно критические замечания тех, в чьей дружбе был уверен и на чей вкус надеялся, притом не побуждался меркантильными расчетами, почему и делал строгий выбор произведениям, которые назначал к печати. Не могу опять с истинною сердечною горестию не пожалеть, что по смерти Лермонтова его сочинения издаются не с такою же разборчивостью.
Ужель (как сказал он сам) ребяческие чувства,
Нестройный, безотчетный бред,
Достойны строгого искусства?
Их осмеет, забудет свет.
Весной 1838 года приехала в Петербург с мужем Варвара Александровна проездом за границу. Лермонтов был в Царском, я послал к нему нарочного, а сам поскакал к ней. Боже мой, как болезненно сжалось мое сердце при ее виде! Бледная, худая, и тени не было прежней Вареньки, только глаза сохранили свой блеск и были такие же ласковые, как и прежде. «Ну, как вы здесь живете?» - «Почему же это вы?» - «Потому, что я спрашиваю про двоих». - «Живем, как бог послал, а думаем и чувствуем, как в старину. Впрочем, другой ответ будет из Царского через два часа». Это была наша последняя встреча; ни ему, ни мне не суждено было ее больше видеть. Она пережила его, томилась долго и скончалась, говорят, покойно, лет десять тому назад.
В.А. Жуковский хотел видеть Лермонтова, которого ему и представили. Маститый поэт принял молодого дружески и внимательно и подарил ему экземпляр своей «Ундины» с собственноручною надписью. Один из членов царской фамилии пожелал прочесть «Демона», ходившего в то время по рукам, в списках более или менее искаженных. Лермонтов принялся за эту поэму в четвертый раз, обделал ее окончательно, отдал переписать каллиграфически и, по одобрении к печати цензурой, препроводил по назначению. Через несколько дней он получил ее обратно, и это единственный экземпляр полный и после которого «Демон» не переделывался. Экземпляр этот должен находиться у г. Алопеуса, к которому перешел от меня через Обухова, товарища моего по Артиллерийскому училищу. Есть еще один экземпляр «Демона», писанный весь рукой Лермонтова и переданный мною Дмитрию Аркадьевичу Столыпину.
Мы часто в последнее время говорили с Лермонтовым о «Демоне». Бесспорно, в нем есть прекрасные стихи и картины, хотя я тогда, помня Кавказ, как сквозь сон, не мог, как теперь, судить о поразительной верности этих картин. Без сомнения, явясь в печати, он должен был иметь успех, но мог возбудить и очень строгую рецензию. Мне всегда казалось, что «Демон» похож на оперу с очаровательнейшею музыкой и пустейшим либретто. В опере это извиняется, но в поэме не так. Дельный критик может и должен спросить поэта, в особенности такого, как Лермонтов: «Какая цель твоей поэмы, какая в ней идея?» В «Демоне» видна одна цель - написать несколько прекрасных стихов и нарисовать несколько прелестных картин дивной кавказской природы, это хорошо, но мало. Идея же, смешно сказать, вышла такая, о какой сам автор и не думал. В самом деле, вспомните строфу:
И входит он, любить готовый,
С душой открытой для добра... и проч.
Не правда ли, что тут князю де Талейрану пришлось бы повторить небесной полиции свое слово: surtout pas trop de zèle, Messieurs! Посланник рая очень некстати явился защищать Тамару от опасности, которой не существовало; этою неловкостью он помешал возрождению Демона и тем приготовил себе и своим в будущем пропасть хлопот, от которых они навек бы избавились, если бы посланник этот был догадливее. Безнравственной идеи этой Лермонтов не мог иметь; хотя он и не отличался особенно усердным выполнением религиозных обрядов, но не был ни атеистом, ни богохульником. Прочтите его пьесы «Я, матерь божия, ныне с молитвою», «В минуту жизни трудную», «Когда волнуется желтеющая нива», «Ветка Палестины» и скажите, мог ли человек без теплого чувства в сердце написать эти стихи? Мною предложен был другой план: отнять у Демона всякую идею о раскаянии и возрождении, пусть он действует прямо с целью погубить душу святой отшельницы, чтобы борьба Ангела с Демоном происходила в присутствии Тамары, но не спящей; пусть Тамара, как высшее олицетворение нежной женской натуры, готовой жертвовать собой, переходит с полным сознанием на сторону несчастного, но, по ее мнению, кающегося страдальца, в надежде спасти его; остальное все оставить как есть, и стих:
Она страдала и любила,
И рай открылся для любви...-
спасает эпилог. «План твой, - отвечал Лермонтов, - недурен, только сильно смахивает на Элоу «Sœur des anges» Альфреда де Виньи. Впрочем, об этом можно подумать. Демона мы печатать погодим, оставь его пока у себя». Вот почему поэма «Демон», уже одобренная Цензурным комитетом, осталась при жизни Лермонтова ненапечатанною. Не сомневаюсь, что только смерть помешала ему привести любимое дитя своего воображения в вид, достойный своего таланта.
Здесь, кстати, замечу две неточности в этой поэме:
Он сам властитель Синодала...
В Грузии нет Синодала, а есть Цинундалы, старинный замок в очаровательном месте в Кахетии, принадлежащий одной из древнейших фамилий Грузии, князей Чавчавадзе, разграбленный лет восемь тому назад сыном Шамиля.
Бежали робкие грузины...
Грузины не робки, напротив, их скорее можно упрекнуть в безумной отваге, что засвидетельствует вся кавказская армия, понимающая, что такое храбрость. Лермонтов не мог этого не знать, он сам ходил с ними в огонь, бежать могли рабы князя, это обмолвка.
Зимой 1839 года Лермонтов был сильно заинтересован кн. Щербатовой (к ней относится пьеса «На светские цепи»). Мне ни разу не случалось ее видеть, знаю только, что она была молодая вдова, а от него слышал, что такая, что ни в сказке сказать, ни пером написать. То же самое, как видно из последующего, думал про нее и г. де Барант, сын тогдашнего французского посланника в Петербурге. Немножко слишком явное предпочтение, оказанное на бале счастливому сопернику, взорвало Баранта, он подошел к Лермонтову и сказал запальчиво: «Vous profitez trop, Monsieur, de ce que nous sommes dans un pays où le duel est défendu».- «Qu"àça ne tienne, Monsieur, - отвечал тот, - je me mets entièrement à votre disposition», и на завтра назначена была встреча; это случилось в середу на масленице 1840 года. Нас распустили из училища утром, и я, придя домой часов в девять, очень удивился, когда человек сказал мне, что Михаил Юрьевич изволили выехать в семь часов; погода была прескверная, шел мокрый снег с мелким дождем. Часа через два Лермонтов вернулся, весь мокрый, как мышь. «Откуда ты эдак?» - «Стрелялся». - «Как, что, зачем, с кем?» - «С французиком».
- «Расскажи». Он стал переодеваться и рассказывать: «Отправился я к Мунге, он взял отточенные рапиры и пару кухенрейтеров, и поехали мы за Черную Речку. Они были на месте. Мунго подал оружие, француз выбрал рапиры, мы стали по колено в мокром снегу и начали; дело не клеилось, француз нападал вяло, я не нападал, но и не поддавался. Мунго продрог и бесился, так продолжалось минут десять. Наконец он оцарапал мне руку ниже локтя, я хотел проколоть ему руку, но попал в самую рукоятку, и моя рапира лопнула. Секунданты подошли и остановили нас; Мунго подал пистолеты, тот выстрелил и дал промах, я выстрелил на воздух, мы помирились и разъехались, вот и все».
История эта оставалась довольно долго без последствий, Лермонтов по-прежнему продолжал выезжать в свет и ухаживать за своей княгиней; наконец одна неосторожная барышня Б, вероятно, безо всякого умысла, придала происшествию достаточную гласность в очень высоком месте, вследствие чего приказом по гвардейскому корпусу поручик лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтов за поединок был предан военному суду с содержанием под арестом, и в понедельник на страстной неделе получил казенную квартиру в третьем этаже с.-петербургского ордонанс-гауза, где и пробыл недели две, а оттуда перемещен на арсенальную гауптвахту, что на Литейной. В ордонанс-гауз к Лермонтову тоже никого не пускали; бабушка лежала в параличе и не могла выезжать, однако же, чтобы Мише было не так скучно и чтоб иметь о нем ежедневный и достоверный бюллетень, она успела выхлопотать у тогдашнего коменданта или плац-майора, не помню хорошенько, барона З<ахаржевского>, чтоб он позволил впускать меня к арестанту. Благородный барон сжалился над старушкой и разрешил мне под своею ответственностью свободный вход, только у меня всегда отбирали на лестнице шпагу (меня тогда произвели и оставили в офицерских классах дослушивать курс). Лермонтов не был очень печален, мы толковали про городские новости, про новые французские романы, наводнявшие тогда, как и теперь, наши будуары, играли в шахматы, много читали, между прочим Андре Шенье, Гейне и «Ямбы» Барбье, последние ему не нравились, изо всей маленькой книжки он хвалил только одну следующую строфу, из пьесы «La Popularité»:
C"est la mer, c"est la mer, d"abord calme et sereine,
La mer, aux premiers feux du jour,
Chantant et souriant comme une jeune reine,
La mer blonde et pleine d"amour.
La mer baisant le sable et caressant la rive
Du beaume enivrant de ses flots,
Et berçant sur sa gorge, ondoyante et lassive,
Son peuple brun de matelots.
Здесь написана была пьеса «Соседка», только с маленьким прибавлением. Она действительно была интересная соседка, я ее видел в окно, но решеток у окна не было, и она была вовсе не дочь тюремщика, а, вероятно, дочь какого-нибудь чиновника, служащего при ордонанс-гаузе, где и тюремщиков нет, а часовой с ружьем точно стоял у двери, я всегда около него ставил свою шпагу.
Между тем военно-судное дело шло своим порядком и начинало принимать благоприятный оборот вследствие ответа Лермонтова, где он писал, что не считал себя вправе отказать французу, так как тот в словах своих не коснулся только его, Лермонтова, личности, а выразил мысль, будто бы вообще в России невозможно получить удовлетворения, сам же никакого намерения не имел нанести ему вред, что доказывалось выстрелом, сделанным на воздух. Таким образом, мы имели надежду на благоприятный исход дела, как моя опрометчивость все испортила. Барант очень обиделся, узнав содержание ответа Лермонтова, и твердил везде, где бывал, что напрасно Лермонтов хвастается, будто подарил ему жизнь, это неправда, и он, Барант, по выпуске Лермонтова из-под ареста, накажет его за это хвастовство. Я узнал эти слова француза, они меня взбесили, и я пошел на гауптвахту. «Ты сидишь здесь, - сказал я Лермонтову, - взаперти и никого не видишь, а француз вот что про тебя везде трезвонит громче всяких труб». Лермонтов написал тотчас записку, приехали два гусарские офицера, и я ушел от него. На другой день он рассказал мне, что один из офицеров привозил к нему на гауптвахту Баранта, которому Лермонтов высказал свое неудовольствие и предложил, если он, Барант, недоволен, новую встречу по окончании своего ареста, на что Барант при двух свидетелях отвечал так: «Monsieur, les bruits qui sont parvenus jusqu"à vous sont inexacts, et je m"empresse de vous dire que je me tiens pour parfaitement satisfait».
После чего его посадили в карету и отвезли домой.
Нам казалось, что тем дело и кончилось; напротив, оно только начиналось. Мать Баранта поехала к командиру гвардейского корпуса с жалобой на Лермонтова за то, что он, будучи на гауптвахте, требовал к себе ее сына и вызывал его снова на дуэль. После такого пассажа дело натянулось несколько, поручика Лермонтова тем же чином перевели на Кавказ в Тенгинский пехотный полк, куда он отправился, а вслед за ним и бабушка поехала в деревню. Отсутствие их было непродолжительно; Лермонтов получил отпуск и к новому 1841 году вместе с бабушкой возвратился в Петербург.
Все бабушкины попытки выхлопотать еще раз своему Мише прощенье остались без успеха, ей сказали, что не время еще, надо подождать.
Лермонтов пробыл в Петербурге до мая; с Кавказа он привез несколько довольно удачных видов своей работы, писанных масляными красками, несколько стихотворений и роман «Герой нашего времени», начатый еще прежде, но оконченный в последний приезд в Петербург. В публике существует мнение, будто в «Герое нашего времени» Лермонтов хотел изобразить себя; сколько мне известно, ни в характере, ни в обстоятельствах жизни ничего нет общего между Печориным и Лермонтовым, кроме ссылки на Кавказ. Идеал, к которому стремилась вся праздная молодежь того времени: львы, львенки и проч. коптители неба, как говорит Гоголь, олицетворен был Лермонтовым в Печорине. Высший дендизм состоял тогда в том, чтобы ничему не удивляться, ко всему казаться равнодушным, ставить свое я выше всего; плохо понятая англомания была в полном разгаре, откуда плачевное употребление богом дарованных способностей. Лермонтов очень удачно собрал эти черты в герое своем, которого сделал интересным, но все-таки выставил пустоту подобных людей и вред (хотя и не весь) от них для общества. Не его вина, если вместо сатиры многим угодно было видеть апологию.
На святой неделе Лермонтов написал пьесу «Последнее новоселье»; в то самое время, как он писал ее, мне удалось набросить карандашом его профиль. Упоминаю об этом обстоятельстве потому, что из всех портретов его ни один не похож, и профиль этот, как мне кажется, грешит менее прочих портретов пред подлинником.
Срок отпуска Лермонтова приближался к концу; он стал собираться обратно на Кавказ. Мы с ним сделали подробный пересмотр всем бумагам, выбрали несколько как напечатанных уже, так и еще не изданных и составили связку. «Когда, бог даст, вернусь, - говорил он, - может, еще что-нибудь прибавится сюда, и мы хорошенько разберемся и посмотрим, что надо будет поместить в томик и что выбросить». Бумаги эти я оставил у себя, остальные же, как ненужный хлам, мы бросили в ящик. Если бы знал, где упадешь, говорит пословица, - соломки бы подостлал; так и в этом случае: никогда не прощу себе, что весь этот хлам не отправил тогда же на кухню под плиту.
Второго мая к восьми часам утра приехали мы в Почтамт, откуда отправлялась московская мальпост. У меня не было никакого предчувствия, но очень было тяжело на душе. Пока закладывали лошадей, Лермонтов давал мне различные поручения к В. А. Жуковскому и А. А. Краевскому, говорил довольно долго, но я ничего не слыхал. Когда он сел в карету, я немного опомнился и сказал ему: «Извини, Мишель, я ничего не понял, что ты говорил; если что нужно будет, напиши, я все исполню». - «Какой ты еще дитя, - отвечал он. - Ничего, все перемелется - мука будет. Прощай, поцелуй ручки у бабушки и будь здоров».
Это были в жизни его последние слова ко мне; в августе мы получили известие о его смерти.
По возвращении моем с бабушкой в деревню, куда привезены были из Пятигорска и вещи Лермонтова, я нашел между ними книгу в черном переплете in 8°, в которой вписаны были рукой его несколько стихотворений, последних, сочиненных им. На первой странице значилось, что книга дана Лермонтову князем Одоевским с тем, чтобы поэт возвратил ее исписанною; приезжавший тогда в Петербург Николай Аркадьевич Столыпин, по просьбе моей, взял эту книгу с собой для передачи князю. Впоследствии, в 1842 году в Кременчуге встретился я со Львом Ивановичем Арнольди и по просьбе его оставил ему на некоторое время связку черновых стихотворений, отобранных Лермонтовым в 1841 году в Петербурге. Не знаю, до какой степени бумаги эти служили при прежних изданиях его сочинений, в которых довольно и ошибок и пропусков, тем не менее желательно, чтобы будущие издатели сверили имеющиеся у них рукописи с находящимися у названных мною лиц, которые, вероятно, из уважения к памяти покойного поэта в том препятствовать не будут. Только, ради создателя, для чего же все эти ученические тетради и стихи первой юности? Если бы Лермонтов жил долго и сочинения его, разбросанные по разным местам, могли бы доставить материал для многотомного собрания - дело другое; должно было бы соединить в одно место, в хронологическом порядке, если угодно, все, что поэтом было издано или назначено к посмертному изданию; в таком собрании действительно можно было бы следить за развитием и ходом дарования поэта. Но Лермонтову, когда его убили, не было и двадцати семи лет. Талант его не только не успел принести зрелого плода, но лишь начал развиваться: все, что можно читать с удовольствием из написанного им, едва ли доставит материал и на один том. Зачем же прибавлять к нему еще два, увеличивать их объем, предлагая публике творения ниже посредственности, недостойные славы поэта, которые он сам признавал такими и никогда не думал выпускать в свет? Не следовало.
Таково мое мнение, - выражаю его откровенно. Может быть, некоторые из Аристархов нашей литературы и назовут меня отсталым старовером, не понимающим современных требований ее истории и критики. Пусть так, заранее покоряюсь строгому приговору; по крайней мере, читатель, зевая над «Тетрадями», не вправе будет пенять на Лермонтова за свою скуку.
В 1844 году, по выходе в отставку, пришлось мне поселиться на Кавказе, в Пятигорском округе, и там узнал я достоверные подробности о кончине Лермонтова от очевидцев, посторонних ему. Летом 1841 года собралось в Пятигорске много молодежи из Петербурга, между ними и Мартынов, очень красивый собой, ходивший всегда в черкеске с большим дагестанским кинжалом на поясе. Лермонтов, по старой привычке трунить над школьным товарищем, выдумал ему прозванье Montagnard au grand poignard; оно было бы, кажется, и ничего, но, когда часто повторяется, может наскучить. 14 июля, вечером, собралось много в доме Верзилиных; общество было оживленное и шумное; князь С. Трубецкой играл на фортепьяно, Лермонтов сидел подле дочери хозяйки дома, в комнату вошел Мартынов. Обращаясь к соседке, Лермонтов сказал: «M-lle Emilie, prenez garde, voici que s"approche le farouche montagnard».
Это сказано было довольно тихо, за общим говором нельзя было бы расслышать и в двух шагах; но, по несчастию, князь Трубецкой в эту самую минуту встал, все как будто по команде умолкло, и слова le farouche montagnard раздались по комнате. Когда стали расходиться, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему:
M. Lermontoff, je vous ai bien des fois prié de retenir vos plaisanteries sur mon compte, au moins devant les femmes.
Allons donc, - отвечал Лермонтов, - allez-vous vous fâcher sérieusement et me provoquer?
Oui, je vous provoque, - сказал Мартынов и вышел.
На другой день, пятнадцатого, условились съехаться после обеда вправо от дороги, ведущей из Пятигорска в шотландскую колонию, у подошвы Машука; стали на двенадцать шагов. Мартынов выстрелил первый; пуля попала в правый бок, пробила легкие и вылетела насквозь; Лермонтов был убит наповал.
Все остальные варианты на эту тему одни небылицы, не заслуживающие упоминания, о них прежде и не слыхать было; с какою целью они распускаются столько лет спустя, бог весть; и пистолет, из которого убит Лермонтов, находится не там, где рассказывают, - это кухенрейтер № 2 из пары; я его видел у Алексея Аркадьевича Столыпина, на стене над кроватью, подле портрета, снятого живописцем Шведе с убитого уже Лермонтова.
Через год тело его, в свинцовом гробу, перевезено было в Тарханы и положено около могилы матери, близ сельской церкви в часовне, выстроенной бабушкой, где и она теперь покоится.
Давно все это прошло, но память Лермонтова дорога мне до сих пор; поэтому я и не возьмусь произнести суждение о его характере, оно может быть пристрастно, а я пишу не панегирик.
Да будет благосклонен ко мне читатель и не осудит, если неинтересная для него личность моя так часто является пред ним в этом рассказе. Единственное достоинство его есть правдивость; мне казалось необходимым для отклонения сомнений разъяснить, почему все, о чем я говорил, могло быть мне известно, и назвать поименно несколько лиц, которые могут обнаружить неточность, если она встретится. Прошу и их не взыскать, если по этой причине я дозволил себе, без их разрешения, выставить в рассказе моем имена их полностью.
Автор воспоминаний о поэте (впервые напечатаны в журнале «Русское обозрение », 1890, книга VIII). На правах близкого друга помогал Лермонтову в работе над романом «Княгиня Лиговская »; сохранил многие рукописи поэта, включая список 4-й редакции поэмы «Демон », а также его письма, адресованные Святославу Раевскому , Марии Лопухиной , Александре Верещагиной .
В 1851 году женился на падчерице генерала Верзилина Эмилии Александровне Клингенберг - свидетельнице ссоры между Лермонтовым и офицером Николаем Мартыновым , завершившейся дуэлью .
Биография
Детство
Аким Павлович родился в станице Шелкозаводской в семье штабс-капитана в отставке Павла Петровича Шан-Гирея (1795-1864), служившего под началом генерала Ермолова , и Марии Акимовны Шан-Гирей (до замужества - Хастатовой) (1799-1845), приходившейся племянницей бабушке Лермонтова - Елизавете Алексеевне Арсеньевой . В семье росло четверо детей; Аким Павлович был старшим . В 1825 году Шан-Гиреи по настоянию Елизаветы Алексеевны перебрались из Пятигорска в Пензенскую губернию . На первых порах они остановились у Арсеньевой в Тарханах , позже приобрели расположенное неподалёку имение Апалиха. Семилетний Аким, взятый бабушкой Лермонтова «на воспитание вместе с Мишелем», жил рядом с будущим поэтом в течение двух лет; у мальчиков была общая детская комната и общие учителя - француз Капэ, рассказывавший о ратных подвигах, и немка Кристина Осиповна . Став старше, Лермонтов начал самостоятельно ездить к родственникам в Апалиху; его увлечённость Кавказом могла зародиться ещё в отроческие годы после рассказов Павла Петровича об этом регионе .
Лермонтова я начинаю хорошо помнить с осени 1825 года. <…> Мне живо помнится смуглый, с чёрными
блестящими глазками, Мишель, в зелёной курточке и с клоком белокурых волос, резко отличавшихся от прочих,
чёрных, как смоль. <…> Уже тогда он рисовал акварелью и лепил из крашеного воску целые картины .
Из воспоминаний А. П. Шан-Гирея .
Молодость. Рядом с Лермонтовым
Начиная с 1828 года Шан-Гирей старался надолго не разлучаться со своим троюродным братом; когда тот переехал в Москву , Аким Павлович перебрался следом. Осенью 1832-го Лермонтов поступил в школу гвардейских подпрапорщиков в Петербурге - через два года в столицу прибыл и Шан-Гирей. Остановившись в доме Арсеньевой, он почти ежедневно навещал друга в юнкерской школе, пронося «контрабандой» пироги и конфеты ; порой делал рисунки, рассказывающие о нравах этого заведения (среди сохранившихся - «Юнкера у карцера», «Обед юнкеров») .
Поступив в 1834 году в петербургское артиллерийское училище, Шан-Гирей в выходные и праздничные дни неизменно появлялся в квартире у Елизаветы Алексеевны: друзья играли в шахматы, спорили о книгах; Лермонтов привлекал младшего брата к работе над романом «Княгиня Лиговская» . Шан-Гирей был посвящён в сердечные дела товарища: поэт не скрывал от него ни потрясения, вызванного известием о замужестве Варвары Лопухиной , ни интереса к княгине Марии Алексеевне Щербатовой - борьба за её внимание могла стать одной из причин дуэли Лермонтова с сыном французского посла Эрнестом де Барантом . О том, что поэт ездил на Чёрную речку «стреляться», Шан-Гирей, вернувшийся из училища в неурочный час, узнал от него самого: Лермонтов, появившись в доме «мокрым как мышь», буднично рассказал, что сначала на снегу была драка на рапирах, потом секунданты дали дуэлянтам пистолеты; в итоге всё завершилось благополучно для обеих сторон .
У меня не было никакого предчувствия, но очень было тяжело на душе. Пока закладывали лошадей, Лермонтов давал мне различные поручения, <…> но я ничего не слыхал. «Извини, Мишель, я ничего не понял». - «Какой ты ещё дитя, - отвечал он. - Прощай, поцелуй ручки у бабушки». Это были в жизни его последние слова ко мне. В августе мы получили известие о его смерти.
Прибыв в Пятигорск, Лермонтов отправил ещё одно напутствие своему троюродному брату: в письме от 10 мая 1841 года, адресованном Арсеньевой, он попросил передать «Екиму Шангирею», чтобы тот не ехал в Америку - «уж лучше сюда на Кавказ. Оно и ближе, и гораздо веселее» .
Зрелые годы. Семья
 Шан-Гирей выполнил просьбу Лермонтова и действительно связал свою жизнь с Кавказом. По окончании училища он служил адъютантом у начальника полевой конной артиллерии Ивана Карловича Арнольди . Выйдя в отставку в 1844 году, прибыл в Пятигорск и приобрёл имение недалеко от города . Семь лет спустя Аким Павлович женился на Эмилии Александровне Клингенберг - падчерице генерала Верзилина , в доме которого произошло столкновение Лермонтова с Мартыновым .
Шан-Гирей выполнил просьбу Лермонтова и действительно связал свою жизнь с Кавказом. По окончании училища он служил адъютантом у начальника полевой конной артиллерии Ивана Карловича Арнольди . Выйдя в отставку в 1844 году, прибыл в Пятигорск и приобрёл имение недалеко от города . Семь лет спустя Аким Павлович женился на Эмилии Александровне Клингенберг - падчерице генерала Верзилина , в доме которого произошло столкновение Лермонтова с Мартыновым .
Эмилию Клингенберг, обладавшую способностью окружать себя поклонниками, называли «розой Кавказа». По мнению некоторых исследователей, она послужила прототипом княжны Мери ; ей был посвящён приписываемый Лермонтову язвительный : «За девицей Emilie / Молодёжь как кобели» . О том, какова была роль «пятигорской светской львицы» в истории ссоры Лермонтова и Мартынова, доподлинно неизвестно, однако исследователи «догадывались о недобром участии падчерицы генерала Верзилина в этом конфликте» , а потому с определённым недоверием относились к её мемуарам , вышедшим в 1880-х годах в газетах и журналах «Новое время », «Нива », «Русский вестник » и других . Тем не менее родство с Шан-Гиреем стало для Клингенберг щитом, позволявшим пресечь открытые обвинения .
Аким Павлович много лет занимался ирригационными работами на Кавказе. Работая с земными недрами, он открыл месторождение серы (1867, Нахичеванский уезд). Его профессиональная деятельность совмещалась с общественной. Так, активная вовлечённость Шан-Гирея в дела уезда позволила ему занять пост предводителя дворянства . За работу в комитете Государственного совета и Кавказском комитете по устройству крестьян Ставропольской губернии он был награждён бронзовой медалью .
Шан-Гирей скончался в Тифлисе 8 декабря 1883 года; причиной смерти стало нарушение целостности стенок сердца. Прах Акима Павловича перевезли в Пятигорск. Его последним приютом стало старое пятигорское кладбище; могила Шан-Гирея находится неподалёку от места первоначального погребения Лермонтова . Эмилия Александровна Клингенберг пережила мужа на восемь лет .
Полемика вокруг творческого вклада
Среди литературоведов нет однозначного мнения о том, насколько глубоко Аким Шан-Гирей был погружён в творческие замыслы Лермонтова. Так, Павел Висковатов считал, что троюродный брат поэта соприкасался с ними весьма поверхностно: его роль в совместной работе над произведениями сводилась к их написанию под диктовку или чтению подготовленных отрывков вслух. Висковатов объяснял это молодостью Шан-Гирея и тем, что он «по тогдашнему своему развитию не мог быть даже отдалённо полезным сотрудником и ценителем» .
Достаточно жёсткую оценку воспоминаниям Шан-Гирея дал Ираклий Андроников : литературоведа возмутили тезисы о лермонтовском байронизме как «драпировке», за которой не было ни мучений, ни страданий. Назвав эти суждения «наивными и глубоко ложными», Андроников отметил, что Шан-Гирей «многое не понимал, а многое просто не помнил» .
В то же время литературовед и главный редактор Лермонтовской энциклопедии Виктор Мануйлов подчёркивал, что Шан-Гирей был одним из немногих окружавших поэта людей, которым тот доверял свои творческие планы . Мануйлова в целом поддерживали и другие исследователи, считавшие, что «может быть, только С. А. Раевский значил больше в жизни поэта». Сам же Раевский, узнав о намерении Шан-Гирея написать мемуары о Лермонтове, откликнулся на инициативу словами :
Ты был его другом, преданным с детства, и почти не расставался с ним; по крайней мере все
значительные изменения в его жизни совершились при тебе, при тёплом твоем участии, и редкая твоя память
порукою, что никто вернее тебя не может передать обществу многое замечательное об этом человеке.
Напишите отзыв о статье "Шан-Гирей, Аким Павлович"
Примечания
- , с. 619.
- Крылова Г. А. Клингенбе́рг // . - С. 222-223.
- Шехурина Л. Д. Шан-Гиреи. Павел Петрович // Лермонтовская энциклопедия. - М .: Советская энциклопедия, 1981. - С. 618.
- Сандомирская В. Б. Шан-Гиреи. Мария Акимовна // Лермонтовская энциклопедия. - М .: Советская энциклопедия, 1981. - С. 618.
- , с. 28-29.
- . Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы». Проверено 8 марта 2015.
- , с. 28-30.
- , с. 133.
- , с. 618.
- , с. 203.
- , с. 327.
- Назарова Л. Н. Щерба́това // . - М .: Советская энциклопедия, 1981. - С. 628.
- , с. 328.
- , с. 447.
- Гиллельсон М., Миллер О. Комментарии // . - М .: Художественная литература, 1989. - С. 497-498.
- М.Ф. Дамианиди. . Лермонтов. Энциклопедический словарь. Проверено 25 марта 2015.
- Т. П. Голованова, Г. А. Лапкина, А. Н. Михайлова. Примечания // . - М., Л.: Издательство АН СССР, 1954. - С. 377.
- Вадим Хачиков. . - М .: АСТ, 2014. - С. 33. - ISBN 978-5-17-086820-9 .
- Тер-Габриэлянц И. Г. Шан-Гире́й Е. А. // . - М .: Советская энциклопедия, 1981. - С. 619.
- Б. М. Эйхенбаум, Э. Э. Найдич, Т. П. Голованова, Л. Н. Назарова, И. С. Чистова, Н. А. Хмелевская. Примечания // . - Л. : Наука, Ленинградское отделение, 1981. - С. 517.
- Висковатый П.А. . - М ., 1891.
- Андроников И. Л. . - М .: Художественная литература, 1977. - С. 124-125.
Литература
- Шехурина Л. Д. Шан-Гире́й А. П. // Лермонтовская энциклопедия. - М .: Советская энциклопедия, 1981. - С. 618-619. - 784 с.
- Щёголев П. Е. Лермонтов. - М .: Аграф, 1999. - 528 с. - ISBN 5-7784-0063-2 .
Отрывок, характеризующий Шан-Гирей, Аким Павлович
Сказать «завтра» и выдержать тон приличия было не трудно; но приехать одному домой, увидать сестер, брата, мать, отца, признаваться и просить денег, на которые не имеешь права после данного честного слова, было ужасно.Дома еще не спали. Молодежь дома Ростовых, воротившись из театра, поужинав, сидела у клавикорд. Как только Николай вошел в залу, его охватила та любовная, поэтическая атмосфера, которая царствовала в эту зиму в их доме и которая теперь, после предложения Долохова и бала Иогеля, казалось, еще более сгустилась, как воздух перед грозой, над Соней и Наташей. Соня и Наташа в голубых платьях, в которых они были в театре, хорошенькие и знающие это, счастливые, улыбаясь, стояли у клавикорд. Вера с Шиншиным играла в шахматы в гостиной. Старая графиня, ожидая сына и мужа, раскладывала пасьянс с старушкой дворянкой, жившей у них в доме. Денисов с блестящими глазами и взъерошенными волосами сидел, откинув ножку назад, у клавикорд, и хлопая по ним своими коротенькими пальцами, брал аккорды, и закатывая глаза, своим маленьким, хриплым, но верным голосом, пел сочиненное им стихотворение «Волшебница», к которому он пытался найти музыку.
Волшебница, скажи, какая сила
Влечет меня к покинутым струнам;
Какой огонь ты в сердце заронила,
Какой восторг разлился по перстам!
Пел он страстным голосом, блестя на испуганную и счастливую Наташу своими агатовыми, черными глазами.
– Прекрасно! отлично! – кричала Наташа. – Еще другой куплет, – говорила она, не замечая Николая.
«У них всё то же» – подумал Николай, заглядывая в гостиную, где он увидал Веру и мать с старушкой.
– А! вот и Николенька! – Наташа подбежала к нему.
– Папенька дома? – спросил он.
– Как я рада, что ты приехал! – не отвечая, сказала Наташа, – нам так весело. Василий Дмитрич остался для меня еще день, ты знаешь?
– Нет, еще не приезжал папа, – сказала Соня.
– Коко, ты приехал, поди ко мне, дружок! – сказал голос графини из гостиной. Николай подошел к матери, поцеловал ее руку и, молча подсев к ее столу, стал смотреть на ее руки, раскладывавшие карты. Из залы всё слышались смех и веселые голоса, уговаривавшие Наташу.
– Ну, хорошо, хорошо, – закричал Денисов, – теперь нечего отговариваться, за вами barcarolla, умоляю вас.
Графиня оглянулась на молчаливого сына.
– Что с тобой? – спросила мать у Николая.
– Ах, ничего, – сказал он, как будто ему уже надоел этот всё один и тот же вопрос.
– Папенька скоро приедет?
– Я думаю.
«У них всё то же. Они ничего не знают! Куда мне деваться?», подумал Николай и пошел опять в залу, где стояли клавикорды.
Соня сидела за клавикордами и играла прелюдию той баркароллы, которую особенно любил Денисов. Наташа собиралась петь. Денисов восторженными глазами смотрел на нее.
Николай стал ходить взад и вперед по комнате.
«И вот охота заставлять ее петь? – что она может петь? И ничего тут нет веселого», думал Николай.
Соня взяла первый аккорд прелюдии.
«Боже мой, я погибший, я бесчестный человек. Пулю в лоб, одно, что остается, а не петь, подумал он. Уйти? но куда же? всё равно, пускай поют!»
Николай мрачно, продолжая ходить по комнате, взглядывал на Денисова и девочек, избегая их взглядов.
«Николенька, что с вами?» – спросил взгляд Сони, устремленный на него. Она тотчас увидала, что что нибудь случилось с ним.
Николай отвернулся от нее. Наташа с своею чуткостью тоже мгновенно заметила состояние своего брата. Она заметила его, но ей самой так было весело в ту минуту, так далека она была от горя, грусти, упреков, что она (как это часто бывает с молодыми людьми) нарочно обманула себя. Нет, мне слишком весело теперь, чтобы портить свое веселье сочувствием чужому горю, почувствовала она, и сказала себе:
«Нет, я верно ошибаюсь, он должен быть весел так же, как и я». Ну, Соня, – сказала она и вышла на самую середину залы, где по ее мнению лучше всего был резонанс. Приподняв голову, опустив безжизненно повисшие руки, как это делают танцовщицы, Наташа, энергическим движением переступая с каблучка на цыпочку, прошлась по середине комнаты и остановилась.
«Вот она я!» как будто говорила она, отвечая на восторженный взгляд Денисова, следившего за ней.
«И чему она радуется! – подумал Николай, глядя на сестру. И как ей не скучно и не совестно!» Наташа взяла первую ноту, горло ее расширилось, грудь выпрямилась, глаза приняли серьезное выражение. Она не думала ни о ком, ни о чем в эту минуту, и из в улыбку сложенного рта полились звуки, те звуки, которые может производить в те же промежутки времени и в те же интервалы всякий, но которые тысячу раз оставляют вас холодным, в тысячу первый раз заставляют вас содрогаться и плакать.
Наташа в эту зиму в первый раз начала серьезно петь и в особенности оттого, что Денисов восторгался ее пением. Она пела теперь не по детски, уж не было в ее пеньи этой комической, ребяческой старательности, которая была в ней прежде; но она пела еще не хорошо, как говорили все знатоки судьи, которые ее слушали. «Не обработан, но прекрасный голос, надо обработать», говорили все. Но говорили это обыкновенно уже гораздо после того, как замолкал ее голос. В то же время, когда звучал этот необработанный голос с неправильными придыханиями и с усилиями переходов, даже знатоки судьи ничего не говорили, и только наслаждались этим необработанным голосом и только желали еще раз услыхать его. В голосе ее была та девственная нетронутость, то незнание своих сил и та необработанная еще бархатность, которые так соединялись с недостатками искусства пенья, что, казалось, нельзя было ничего изменить в этом голосе, не испортив его.
«Что ж это такое? – подумал Николай, услыхав ее голос и широко раскрывая глаза. – Что с ней сделалось? Как она поет нынче?» – подумал он. И вдруг весь мир для него сосредоточился в ожидании следующей ноты, следующей фразы, и всё в мире сделалось разделенным на три темпа: «Oh mio crudele affetto… [О моя жестокая любовь…] Раз, два, три… раз, два… три… раз… Oh mio crudele affetto… Раз, два, три… раз. Эх, жизнь наша дурацкая! – думал Николай. Всё это, и несчастье, и деньги, и Долохов, и злоба, и честь – всё это вздор… а вот оно настоящее… Hy, Наташа, ну, голубчик! ну матушка!… как она этот si возьмет? взяла! слава Богу!» – и он, сам не замечая того, что он поет, чтобы усилить этот si, взял втору в терцию высокой ноты. «Боже мой! как хорошо! Неужели это я взял? как счастливо!» подумал он.
О! как задрожала эта терция, и как тронулось что то лучшее, что было в душе Ростова. И это что то было независимо от всего в мире, и выше всего в мире. Какие тут проигрыши, и Долоховы, и честное слово!… Всё вздор! Можно зарезать, украсть и всё таки быть счастливым…
Давно уже Ростов не испытывал такого наслаждения от музыки, как в этот день. Но как только Наташа кончила свою баркароллу, действительность опять вспомнилась ему. Он, ничего не сказав, вышел и пошел вниз в свою комнату. Через четверть часа старый граф, веселый и довольный, приехал из клуба. Николай, услыхав его приезд, пошел к нему.
– Ну что, повеселился? – сказал Илья Андреич, радостно и гордо улыбаясь на своего сына. Николай хотел сказать, что «да», но не мог: он чуть было не зарыдал. Граф раскуривал трубку и не заметил состояния сына.
«Эх, неизбежно!» – подумал Николай в первый и последний раз. И вдруг самым небрежным тоном, таким, что он сам себе гадок казался, как будто он просил экипажа съездить в город, он сказал отцу.
– Папа, а я к вам за делом пришел. Я было и забыл. Мне денег нужно.
– Вот как, – сказал отец, находившийся в особенно веселом духе. – Я тебе говорил, что не достанет. Много ли?
– Очень много, – краснея и с глупой, небрежной улыбкой, которую он долго потом не мог себе простить, сказал Николай. – Я немного проиграл, т. е. много даже, очень много, 43 тысячи.
– Что? Кому?… Шутишь! – крикнул граф, вдруг апоплексически краснея шеей и затылком, как краснеют старые люди.
– Я обещал заплатить завтра, – сказал Николай.
– Ну!… – сказал старый граф, разводя руками и бессильно опустился на диван.
– Что же делать! С кем это не случалось! – сказал сын развязным, смелым тоном, тогда как в душе своей он считал себя негодяем, подлецом, который целой жизнью не мог искупить своего преступления. Ему хотелось бы целовать руки своего отца, на коленях просить его прощения, а он небрежным и даже грубым тоном говорил, что это со всяким случается.
Граф Илья Андреич опустил глаза, услыхав эти слова сына и заторопился, отыскивая что то.
– Да, да, – проговорил он, – трудно, я боюсь, трудно достать…с кем не бывало! да, с кем не бывало… – И граф мельком взглянул в лицо сыну и пошел вон из комнаты… Николай готовился на отпор, но никак не ожидал этого.
– Папенька! па…пенька! – закричал он ему вслед, рыдая; простите меня! – И, схватив руку отца, он прижался к ней губами и заплакал.
В то время, как отец объяснялся с сыном, у матери с дочерью происходило не менее важное объяснение. Наташа взволнованная прибежала к матери.
– Мама!… Мама!… он мне сделал…
– Что сделал?
– Сделал, сделал предложение. Мама! Мама! – кричала она. Графиня не верила своим ушам. Денисов сделал предложение. Кому? Этой крошечной девочке Наташе, которая еще недавно играла в куклы и теперь еще брала уроки.
– Наташа, полно, глупости! – сказала она, еще надеясь, что это была шутка.
– Ну вот, глупости! – Я вам дело говорю, – сердито сказала Наташа. – Я пришла спросить, что делать, а вы мне говорите: «глупости»…
Графиня пожала плечами.
– Ежели правда, что мосьё Денисов сделал тебе предложение, то скажи ему, что он дурак, вот и всё.
– Нет, он не дурак, – обиженно и серьезно сказала Наташа.
– Ну так что ж ты хочешь? Вы нынче ведь все влюблены. Ну, влюблена, так выходи за него замуж! – сердито смеясь, проговорила графиня. – С Богом!
– Нет, мама, я не влюблена в него, должно быть не влюблена в него.
– Ну, так так и скажи ему.
– Мама, вы сердитесь? Вы не сердитесь, голубушка, ну в чем же я виновата?
– Нет, да что же, мой друг? Хочешь, я пойду скажу ему, – сказала графиня, улыбаясь.
– Нет, я сама, только научите. Вам всё легко, – прибавила она, отвечая на ее улыбку. – А коли бы видели вы, как он мне это сказал! Ведь я знаю, что он не хотел этого сказать, да уж нечаянно сказал.
– Ну всё таки надо отказать.
– Нет, не надо. Мне так его жалко! Он такой милый.
– Ну, так прими предложение. И то пора замуж итти, – сердито и насмешливо сказала мать.
– Нет, мама, мне так жалко его. Я не знаю, как я скажу.
– Да тебе и нечего говорить, я сама скажу, – сказала графиня, возмущенная тем, что осмелились смотреть, как на большую, на эту маленькую Наташу.
– Нет, ни за что, я сама, а вы слушайте у двери, – и Наташа побежала через гостиную в залу, где на том же стуле, у клавикорд, закрыв лицо руками, сидел Денисов. Он вскочил на звук ее легких шагов.
– Натали, – сказал он, быстрыми шагами подходя к ней, – решайте мою судьбу. Она в ваших руках!
– Василий Дмитрич, мне вас так жалко!… Нет, но вы такой славный… но не надо… это… а так я вас всегда буду любить.
Денисов нагнулся над ее рукою, и она услыхала странные, непонятные для нее звуки. Она поцеловала его в черную, спутанную, курчавую голову. В это время послышался поспешный шум платья графини. Она подошла к ним.
– Василий Дмитрич, я благодарю вас за честь, – сказала графиня смущенным голосом, но который казался строгим Денисову, – но моя дочь так молода, и я думала, что вы, как друг моего сына, обратитесь прежде ко мне. В таком случае вы не поставили бы меня в необходимость отказа.
– Г"афиня, – сказал Денисов с опущенными глазами и виноватым видом, хотел сказать что то еще и запнулся.
Наташа не могла спокойно видеть его таким жалким. Она начала громко всхлипывать.
– Г"афиня, я виноват перед вами, – продолжал Денисов прерывающимся голосом, – но знайте, что я так боготво"ю вашу дочь и всё ваше семейство, что две жизни отдам… – Он посмотрел на графиню и, заметив ее строгое лицо… – Ну п"ощайте, г"афиня, – сказал он, поцеловал ее руку и, не взглянув на Наташу, быстрыми, решительными шагами вышел из комнаты.
На другой день Ростов проводил Денисова, который не хотел более ни одного дня оставаться в Москве. Денисова провожали у цыган все его московские приятели, и он не помнил, как его уложили в сани и как везли первые три станции.
После отъезда Денисова, Ростов, дожидаясь денег, которые не вдруг мог собрать старый граф, провел еще две недели в Москве, не выезжая из дому, и преимущественно в комнате барышень.
Соня была к нему нежнее и преданнее чем прежде. Она, казалось, хотела показать ему, что его проигрыш был подвиг, за который она теперь еще больше любит его; но Николай теперь считал себя недостойным ее.
Он исписал альбомы девочек стихами и нотами, и не простившись ни с кем из своих знакомых, отослав наконец все 43 тысячи и получив росписку Долохова, уехал в конце ноября догонять полк, который уже был в Польше.
После своего объяснения с женой, Пьер поехал в Петербург. В Торжке на cтанции не было лошадей, или не хотел их смотритель. Пьер должен был ждать. Он не раздеваясь лег на кожаный диван перед круглым столом, положил на этот стол свои большие ноги в теплых сапогах и задумался.
– Прикажете чемоданы внести? Постель постелить, чаю прикажете? – спрашивал камердинер.
Пьер не отвечал, потому что ничего не слыхал и не видел. Он задумался еще на прошлой станции и всё продолжал думать о том же – о столь важном, что он не обращал никакого.внимания на то, что происходило вокруг него. Его не только не интересовало то, что он позже или раньше приедет в Петербург, или то, что будет или не будет ему места отдохнуть на этой станции, но всё равно было в сравнении с теми мыслями, которые его занимали теперь, пробудет ли он несколько часов или всю жизнь на этой станции.
Смотритель, смотрительша, камердинер, баба с торжковским шитьем заходили в комнату, предлагая свои услуги. Пьер, не переменяя своего положения задранных ног, смотрел на них через очки, и не понимал, что им может быть нужно и каким образом все они могли жить, не разрешив тех вопросов, которые занимали его. А его занимали всё одни и те же вопросы с самого того дня, как он после дуэли вернулся из Сокольников и провел первую, мучительную, бессонную ночь; только теперь в уединении путешествия, они с особенной силой овладели им. О чем бы он ни начинал думать, он возвращался к одним и тем же вопросам, которых он не мог разрешить, и не мог перестать задавать себе. Как будто в голове его свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь. Винт не входил дальше, не выходил вон, а вертелся, ничего не захватывая, всё на том же нарезе, и нельзя было перестать вертеть его.
Муса Гулиев – ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Нахчыванского отделения Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии.
Согласно историческим данным, предком крымских ханов был Чингиз-хан. Сами же крымские ханы династии Гиреев считали себя прямыми наследниками старшего сына Чингиз-хана Джучи. Независимое Крымское ханство возникло в XV веке после крушения Золотой орды . Как отмечает турецкий автор Халил Иналчик, исследовавший историю династии Гиреев (Гераев), первым правителем Крымского ханства стал Хаджи Гирей I, правивший с 1428 года, а последним – Шахин Гирей I . В 1783 году Крым был захвачен и аннексирован Российской империей, и правившие в 1784-1785 гг. Бахадур Гирей II и Шахин Гирей II стали последними крымскими ханами .
После 1785 года, когда Крымское ханство практически прекратило существование, для крымских татар наступили тяжелые времена. Часть их, в том числе и сам Шахин Гирей, были насильственно христианизированы. Один из его потомков Аким Павлович Шан Гирей (1815-1883) занимал должность начальника уездного управления Нахчывана. Его отец Павел Петрович Шан Гирей имел обширные поместья на Северном Кавказе, мать Мария Акимовна (1799-1875) была дочерью Акима Хастатова. Ее мать Екатерина доводилась родной сестрой Елизавете, бабушке по матери поэта М. Лермонтова; сестры принадлежали к известному роду Столыпиных и были очень богаты .
Имения Екатерины «Шелковое» и «Земной рай» на Кавказе были известны по всей России. В 1825 году по совету бабушки Лермонтова Елизаветы Шан Гиреи переехали в Пензенскую губернию – в Апалих близ Тарханы. И детство Михаила Лермонтова и Акима Шан Гирея, состоявших в близком родстве, прошло вместе. Аким Шан Гирей окончил артиллерийское училище в Петербурге, служил в армии и был демобилизован в звании подпоручика , а в 1844 году после смерти Лермонтова на дуэли переехал в Пятигорск. В 1845 году его назначают начальником управления Нахчыванского уезда , и в этом, как представляется, решающую роль сыграл тот факт, что сестра Акима была замужем за Столыпиным.
В годы работы на этой должности Аким Шан Гирей занимался также ирригационными работами. Он арендовал участок близ реки Арпачай в Шарурском округе на 24 года и начал строить канал Шенгилей. Источники того времени свидетельствуют о помехах строительству канала со стороны некоторых влиятельных армян. Несмотря на неоднократные конфликты, он не отказался от своего прогрессивного проекта, и в этом ему очень помогал его близкий друг Калбалы хан Нахчыванский. Аким Шан Гирей не терял связи с Нахчываном уже после ухода с должности, занимаясь делами арендованных земель .
Среди исследователей идут споры относительно времени смерти Акима Шан Гирея – 1883-й или 1913-й год. Поводом для спора стала подпись «Шан Гирей», под которой вплоть до 1918 года управлялось его имение в Шаруре. Русский ученый и востоковед К.Н. Смирнов писал в книге «Материалы об истории и этнографии Нахичеванского края»: «Бывший начальник уезда Шан Гирей купил земли, построил канал и его сын стал одним из помещиков Нахичеванского края» . В этой работе указывается, что живший до 1913 года Аким Шан Гирей был сыном Акима Шан Гирея-старшего, настоящее имя его Арим, а его супруга Дорохова была казачкой . Подробную информацию об Акиме Шан Гирее-младшем дает в своей книге ныне покойный ученый историк Али Алиев, который указывает, что этот последний был убит в 1913 году армянами в Иреване . В книге отмечается, что «Шенгилей-канал» строился с 1870-го по 1896-й год (11). После смерти Акима Шан Гирея-старшего в 1883 году строительство канала Шенгилей продолжил его сын, инженер Аким (Арим) Шан Гирей-младший, причем основные проекты были разработаны и начаты отцом. Помимо этого, А. Шан Гирей-старший по просьбе упоминавшегося выше Калбалы хана приступил к восстановлению озера-водохранилища Ганлыгель (Канглы-гель), которое было построено еще в 1747 году нахчыванским Гейдаргулу ханом с целью орошения засушливых низменных территорий, и закончил работы в 1865 году .
Супругой А.П. Шан Гирея-старшего была Эмилия Александровна Клингенберг (1815-1891), и у них было двое детей – Аким и Евгения; последняя скончалась в 1943 году . Следует отметить, что в имении А. Шан Гирея было много слуг-армян, и многие исследователи, видимо, по этой причине приняли крымского татарина Акима за армянина. В то же время источники содержат сведения о неоднократных судебных тяжбах против Шан Гиреев со стороны Джахана Поладова, айсора по происхождению, сколотившего состояние в Нахчыване, Саака Егизарова, из иранских армян, и других. Документы об этих процессах, принадлежащие А. Шахину Гирею-младшему, хранятся в Государственном архиве НАР .
Аким Шан Гирей-младший занимался в Шарурском округе также садоводством. В своей статье «Садоводство, виноградство, бахчеводство и другие отрасли сельского хозяйства в Шарурдаралагезском округе», опубликованной 20 августа 1901 года в Петербурге, он описывает выращиваемые на этой земле различные сорта персиков и абрикосов , указывал на необходимость развития садоводства в Шарурском округе.
А.П. Шан Гирей был очень мужественным человеком. Его молочная мать и няня были черкески. В то время среди крымских татар бытовал обычай отправлять новорожденных на Кавказ в черкесские села, где они получали воспитание и обучались военному искусству. Таким образом, между крымскими татарами и горцами Северного Кавказа существовали тесные отношения. Поэтому с большой вероятностью можно предположить, что и Аким Шан Гирей был воспитан в одном из черкесских аулов . Известно, что выдающиеся русские писатели Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов неоднократно и с большим уважением отзывались в своих произведениях о черкесах и их боевых качествах. Так, Азамат и Казбич, воспетые М. Лермонтовым, были черкесы , а прототип Казбича – реально существовавший Гызыл-бек .
С тех пор прошло почти два столетия, но творения потомков крымских ханов – Шахин Гиреев и сегодня служат азербайджанскому народу, оставаясь символом дружбы и братства Крыма и Азербайджана.
Литература:
- Босворт К.Э. Мусульманские гимнастии. Москва, 1971.
- Там же.
- Там же.
- Лермонтов М. Ю. Проза и письма, т. IV. Ленинград, 1981.
- А.П. Шан-Гирей. М.Ю.Лермонтов. В кн.: М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников.
- Там же.
- Сагалетов. Ираванская губерния и экономика Гекчагюла. Тифлис, 1879.
- К.Н.Смирнов. Материалы об истории и этнографии Нахичеванская края. Баку, 1999.
- Государственный архив Нах. А.Р ф. 23. опись 1, д. 1188.
- Qliyev Э. Qlinca yadda§i. Naxgivan, 1914-1922. Baki, 1997.
- Там же.
- Там же.
- Лермонтов М.Ю. Указ раб.
- Государственный архив Нах. АР. ф.1, опись 1, дело 22/1, ф. 27, д. 195.
- Babayev S. Naxgivan Muxtar Respublikasinin cografiyasi. Baki, 1999, s. 215.
- ASE (Azarbaycan Sovet Ensiklopediyasi).
- Лермонтов М.Ю. Проза и письма, т. IV. Ленинград, 1981.
- Виноградов. Горцы в романе Лермонтова «Герой нашего времени». В кн.: М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Орджоникидзе, 1963.
Ибраим ВОЕННЫЙ
Династия Гиреев почти 350 лет правила Крымским ханством. Она явила миру много известных личностей, одни из которых были выдающимися государственными деятелями, а другие нашли свое призвание в служении науке и культуре. К последнему типу относился знаменитый искусствовед и этнограф Султан Хан-Гирей. Биография этого человека, а также история династии Гиреев в целом станет предметом нашего обсуждения.
Биография Хан-Гирея
Султан Хан-Гирей родился в 1808 году на территории современной Адыгеи. Он был третьим сыном крымскотатарского аристократа, происходившего из ханского рода - Мехмеда Хан-Гирея. Кроме того, в жилах Султана текла и черкесская кровь. Лучшие качества этих двух народов переплелись в нем.
После достижения 29-летнего возраста участвовал в ряде войн Российской империи, имея при этом офицерское звание и командуя отдельным подразделением. Но в Кавказской войне, в то время раздиравшей его родину, участия не принимал, хотя, безусловно, этот трагический конфликт отозвался в его сердце.
Хан-Гирей написал целый ряд работ по этнографии, фольклору и искусствоведению черкесского народа, которые получили мировую известность. Среди них «Записки о Черкесии» и «Черкесские предания». Также он - автор ряда художественных произведений. Но большинство его творений было опубликовано только после смерти. Хан-Гирей известен также как составитель адыгской азбуки.
С 1841 года он проводил активную агитацию среди горцев (по поручению российского правительства) с целью их примирения. Впрочем, его попытки окончились безрезультатно. Умер Хан-Гирей в возрасте 34 лет, в 1842 году, на своей малой родине.

Этот выдающийся человек оставил после себя сына - Султан Мурат-Гирея, родившегося в год смерти отца. Но вклад Султана Хан-Гирея в развитие адыгской культуры и литературы - бесценен.
По одной из версий, именно в честь него крымские татары хотят переименовать в Хан-Гирей Херсон.
Давайте узнаем, кем же являлись предки столь выдающейся личности.
Основание династии
Основателем династии правителей Крыма был Хаджи-Гирей. Он происходил из рода Тукатимуридов - одного из ответвлений потомков Чингизхана. По другой версии, корни династии Гиреев происходили от монгольского рода Киреев, а к Чингизидам они были приписаны уже позже, чтобы оправдать свое право на власть.
Хаджи-Гирей был рожден около 1397 года на территории современной Беларуси, в то время относившейся к Великому княжеству Литовскому (ВКЛ).

В тот период Золотая Орда переживала не лучшие времена, фактически распавшись на несколько независимых государств. Власть в Крыму при поддержке литовского князя удалось в 1441 году захватить Хаджи-Гиреею. Таким образом, он стал родоначальником династии, которая правила в Крыму почти 350 лет.
У истоков могущества
Менгли-Гирей - хан, который заложил фундамент могущества Крымского ханства. Он был сыном Хаджи-Гирея, после смерти которого (в 1466 году) разгорелась борьба за власть между детьми.
Изначально ханом стал старший сын Хаджи-Гирея - Нур-Девлет. Но Менгли-Гирей решил оспорить это право. Несколько раз в ходе этой междоусобной борьбы у Крымского ханства менялся правитель. При этом если Нур-Девлет в своих притязаниях опирался на силы Золотой Орды и Османской империи, то Менгли сделал ставку на местную крымскую знать. Позже к борьбе присоединился ещё один брат - Айдер. В 1477 году престол удалось захватить Джанибеку, который вообще не принадлежал к династии Гиреев.
Наконец, в 1478 году Менгли-Гирей смог окончательно победить своих соперников и утвердиться у власти. Именно он заложил основы могущества Крымского ханства. Правда, в ходе борьбы с другими претендентами ему пришлось признать своего государства от Османской империи и отдать юг Крыма, который колонизировали его союзники - генуэзцы, в непосредственное управление турок.

Крымский хан Менгли-Гирей заключил союз с Московским государством против Большой Орды (наследницы Золотой Орды) и Литвы. В 1482 году его войска разорили Киев, который в то время принадлежал ВКЛ. При нем крымские татары совершали массовые грабительские набеги на земли Великого княжества Литовского в рамках соблюдения договора с Москвой. В 1502 году Менгли-Гирей окончательно уничтожил Большую Орду.
Умер Менгли-Гирей в 1515 году.
Дальнейшее укрепление ханской власти
Ещё больше укрепил государство Мехмед-Гирей - хан, правивший после смерти Менгли-Гирея и приходившийся ему сыном. В отличие от отца, он с молодости готовился стать правителем, получив титул - калга, который соответствовал званию наследного принца. Мехмед-Гирей руководил многими походами и набегами, организованными Менгли-Гиреем.
Ко времени своего вступления на престол он уже держал в своих руках все нити управления государством, так что попытки его братьев поднять мятеж были обречены на провал.
В 1519 году Крымское ханство значительно усилилось, так как на его территорию переселилась часть Ногайской Орды. Это было вызвано тем, что ногайцев разбили казахи, и тем пришлось просить убежище у Мехмеда-Гирея.
При Мехмеде произошла смена курса внешней политики Крымского ханства. После того как Большая Орда была разгромлена его отцом, потребность в союзе с Московским княжеством отпала, поэтому Мехмед-Гирей-хан заключил союз с Литвой против Руси. Именно при нем в 1521 году был организован первый крупный поход крымских татар на Московское княжество.
Мехмеду-Гирею удалось посадить на престол Казанского ханства своего брата - Сахиба-Гирея, тем самым распространив свое влияние на Среднее Поволжье. В 1522 году он захватывает Астраханское ханство. Таким образом, Мехмеду-Гирею фактически удалось подчинить себе значительную часть бывшей Золотой Орды.
Но, пребывая в Астрахани, хан настолько был упоен своим могуществом, что распустил армию, чем воспользовались недоброжелатели, организовавшие заговор против Мехмеда-Гирея и убившие его в 1523 году.

Вершина могущества
В период с 1523 по 1551 год попеременно правили братья и сыновья Мехмеда-Гирея. Это время было насыщенно острой борьбой внутри Крымского ханства. Но в 1551 году к власти пришел Девлет-Гирей - сын Мубарека, который, в свою очередь, был отпрыском Менгли-Гирея. Именно во время его правления Крымское ханство достигло пика могущества.
Девлет-Гирей - крымский хан, который особенно прославился набегами на Русское государство. Его поход 1571 года увенчался даже сожжением Москвы.
Девлет-Гирей находился у власти 26 лет и умер в 1577 году.
Ослабление ханства
Если сыну Девлета-Гирея ещё удавалось держать престиж Крымского ханства, то при его преемниках значение татарского государства на международной арене значительно упало. Сам Мехмед II в 1584 году был свергнут турецким султаном, а вместо него посажен брат Ислям-Гирей. Следующие крымские ханы были мало чем примечательными правителями, а в самом государстве смуты стали довольно частым явлением.
В 1648 году на арену большой политики попытался выйти Ислям-Гирей III, заключив союз с запорожскими казаками в освободительной войне против Речи Посполитой. Но этот союз вскоре распался, а гетманщина перешла в подданство к русскому царю.

Последний правитель
Последним правителем Крымского ханства оказался хан Шагин-Гирей. Ещё во время правления его предшественника Девлета-Гирея IV, в 1774 году, Крымское ханство получило независимость от Османской империи и признало протекторат России. Это было одним из условий Кючук-Кайнарджийского мира, завершившего очередную русско-турецкую войну.
Крымский хан Шагин-Гирей пришел к власти в 1777 году как ставленник России. Он был возведен на престол вместо протурецки настроенного Девлета-Гирея IV. Впрочем, даже поддержанный русским оружием, на троне он сидел некрепко. Об этом свидетельствует то, что в 1782 году он был смещен с престола своим братом Бахадыр-Гиреем, пришедшим к власти на волне народного восстания. С помощью русских войск Шагин-Гирею удалось вернуть трон, но дальнейшее его правление стало фикцией, так как реальной власти он уже не имел.

В 1783 году эта фикция была устранена. Шагин-Гирей подписал отречение от престола, а Крымское ханство было присоединено к Российской империи. Так закончился период правления Гиреев в Крыму. Свидетельством правления Шагина теперь могут служить разве что монеты хана Гирея, изображение которых можно наблюдать выше.
Шагин-Гирей после отречения сначала жил в России, но потом переехал в Турцию, где в 1787 году был казнен по приказу султана.
Гиреи после потери власти
Султан Хан-Гирей - не единственный представитель рода, который стал широко известным после потери власти династии над Крымом. Знамениты были его братья - Султан Адиль-Гирей и Султан Сагат-Гирей, которые прославились на военном поприще во благо Российской империи.
Двоюродный племянник Хан-Гирея Султан Давлет-Гирей стал основателем адыгского театра. Брат последнего, Сутан Крым-Гирей, являлся председателем комитета конной дивизии. Оба были убиты в 1918 году большевиками.
В настоящее время на титул крымского хана номинально претендует Джеззар Памир-Гирей, который проживает в Лондоне.

Значение рода Гиреев в мировой истории
Род Гиреев оставил заметный след в истории Крыма, да и мировой истории в целом. С именем этой династии практически неразрывно связано существование Крымского ханства - государства, которое в свое время играло одну из ведущих ролей в Восточной Европе.
Гиреев помнит и нынешнее поколение крымских татар, ассоциируя этот род со славными временами в истории народа. Недаром от них исходит инициатива переименовать в Хан-Гирей Херсон.
В 1844 году, по выходе в отставку, пришлось мне поселиться на Кавказе, в Пятигорском округе, и там узнал я достоверные подробности о кончине Лермонтова от очевидцев, посторонних ему. Летом 1841 года собралось в Пятигорске много молодежи из Петербурга, между ними и Мартынов, очень красивый собой, ходивший всегда в черкеске с большим дагестанским кинжалом на поясе. Лермонтов, по старой привычке трунить над школьным товарищем, выдумал ему прозванье Montagnard au grand poignard; оно было бы, кажется, и ничего, но, когда часто повторяется, может наскучить. 14 июля, вечером, собралось много в доме Верзилиных; общество было оживленное и шумное; князь С. Трубецкой играл на фортепьяно, Лермонтов сидел подле дочери хозяйки дома, в комнату вошел Мартынов. Обращаясь к соседке, Лермонтов сказал: «M-lle Emilie, prenez garde, voici que s"approche le farouche montagnard» .
Это сказано было довольно тихо, за общим говором нельзя было бы расслышать и в двух шагах; но, по несчастию, князь Трубецкой в эту самую минуту встал, все как будто по команде умолкло, и слова le farouche montagnard раздались по комнате. Когда стали расходиться, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему:
– M. Lermontoff, je vous ai bien des fois prié de retenir vos plaisanteries sur mon compte, au moins devant les femmes .
– Allons donc, – отвечал Лермонтов, – allez-vous vous fâcher sérieusement et me provoquer?
– Oui, je vous provoque , – сказал Мартынов и вышел.
На другой день, пятнадцатого, условились съехаться после обеда вправо от дороги, ведущей из Пятигорска в шотландскую колонию, у подошвы Машука; стали на двенадцать шагов. Мартынов выстрелил первый; пуля попала в правый бок, пробила легкие и вылетела насквозь; Лермонтов был убит наповал.
Все остальные варианты на эту тему одни небылицы, не заслуживающие упоминания, о них прежде и не слыхать было; с какою целью они распускаются столько лет спустя, бог весть; и пистолет, из которого убит Лермонтов, находится не там, где рассказывают, – это кухенрейтер № 2 из пары; я его видел у Алексея Аркадьевича Столыпина, на стене над кроватью, подле портрета, снятого живописцем Шведе с убитого уже Лермонтова.
Через год тело его, в свинцовом гробу, перевезено было в Тарханы и положено около могилы матери, близ сельской церкви в часовне, выстроенной бабушкой, где и она теперь покоится.
Давно все это прошло, но память Лермонтова дорога мне до сих пор; поэтому я и не возьмусь произнести суждение о его характере, оно может быть пристрастно, а я пишу не панегирик.
Да будет благосклонен ко мне читатель и не осудит, если неинтересная для него личность моя так часто является пред ним в этом рассказе. Единственное достоинство его есть правдивость; мне казалось необходимым для отклонения сомнений разъяснить, почему все, о чем я говорил, могло быть мне известно, и назвать поименно несколько лиц, которые могут обнаружить неточность, если она встретится. Прошу и их не взыскать, если по этой причине я дозволил себе, без их разрешения, выставить в рассказе моем имена их полностью.